

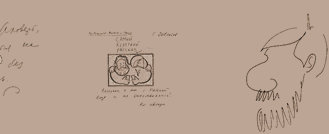 |
|
Citation / Цитаты |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Дед Исаак очень много ел. Батоны разрезал
не поперек, а вдоль. В гостях бабка Рая постоянно за него краснела. Прежде
чем идти в гости, дед обедал. Это не помогало. Куски хлеба он складывал
пополам. Водку пил из бокала для крем-соды. Во время десерта просил не
убирать заливное. Вернувшись домой, с облегчением ужинал...
("Наши") Познакомили меня с развитой девицей Фридой Штейн. Мы провели два часа в ресторане. Играла музыка. Фрида читала меню, как Тору, — справа налево. Мы заказали блинчики и кофе. Фрида сказала: — Все мы — люди определенного круга. Я кивнул. — Надеюсь, и вы — человек определенного круга? — Да, — сказал я. — Какого именно? — Четвертого, — говорю, — если вы подразумеваете круги ада. — Браво! — сказала девушка. Я тотчас же заказал шампанское. ("Хочу быть сильным") Я ненавижу кладбищенские церемонии. Не потому, что кто-то умер, ведь близких хоронить мне не доводилось. А к посторонним я равнодушен. И все-таки ненавижу похороны. На фоне чьей-то смерти любое движение кажется безнравственным. Я ненавижу похороны за ощущение красивой убедительной скорби. За слезы чужих, посторонних людей. За подавляемое чувство радости: "Умер не ты, а другой". За тайное беспокойство относительно предстоящей выпивки. За неумеренные комплименты в адрес покойного. (Мне всегда хотелось крикнуть: "Ему наплевать. Будьте снисходительнее к живым. То есть ко мне, например".) ("Компромисс") Панаев вытащил карманные часы размером с десертное блюдце. Их циферблат был украшен витиеватой неразборчивой монограммой. Я вгляделся и прочитал сделанную каллиграфическими буквами надпись: "Пора опохмелиться!!!" И три восклицательных знака. Панаев объяснил: — Это у меня еще с войны — подарок друга, гвардии рядового Мурашко. Уникальный был специалист по части выпивки. Поэт, художник... — Рановато, — говорю. Панаев усмехнулся: — Ну и молодежь пошла. Затем добавил: — У меня есть граммов двести водки. Не здесь, а в Париже. За телевизор спрятана. Поверьте, я физически чувствую, как она там нагревается. ("Филиал") Дядя Хорен прожил трудную жизнь. До войны он где-то заведовал снабжением. Потом обнаружилась растрата — миллион. Суд продолжался месяц. — Вы приговорены, — торжественно огласил судья, — к исключительной мере наказания — расстрелу! — Вай! — закричал дядя Хорен и упал на пол. — Извините, — улыбнулся судья, — я пошутил. Десять суток условно... ("Когда-то мы жили в горах") В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса... ("Заповедник") Поэты, как известно, любят одиночество. Еще больше любят поговорить на эту тему в хорошей компании. Полчища сплоченных анахоретов бродят из одной компании в другую... Уфлянд любит одиночество без притворства. Я не помню другого человека, столь мало заинтересованного в окружающих. Он и в гости-то зовет своеобразно. Звонит: — Ты вечером свободен? — Да. А что? — Все равно должен явиться Охапкин (талантливый ленинградский поэт). Приходи и ты... Мол, вечер испорчен, чего уж теперь... ("Рыжий") — А где мои брюки? — спрашиваю. — Вера тебя раздевала, — откликнулся Марков, — спроси у нее. — Я брюки сняла, — объяснила Вера, — а жакет — постеснялась... Осмыслить ее заявление у меня не хватило сил. — Логично, — высказался Марков. — Они в сенях, я принесу... — Ты лучше принеси опохмелиться!.. Марков слегка возвысил голос. Апломб и самоунижение постоянно в нем чередовались. Он говорил: — Надо же русскому диссиденту опохмелиться, как по-твоему?!.. Академик Сахаров тебя за это не похвалит... ("Заповедник") Собственно говоря, я даже не знаю, что такое любовь. Критерии отсутствуют полностью. Несчастная любовь — это я еще понимаю. А если все нормально? По-моему, это настораживает. Есть в ощущении нормы какой-то подвох. И все-таки еще страшнее — хаос... ("Заповедник") Помню, Иосиф Бродский высказывался следующим образом: — Ирония есть нисходящая метафора. Я удивился: — Что значит нисходящая метафора? — Объясняю, — сказал Иосиф, — вот послушайте. "Ее глаза как бирюза" — это восходящая метафора. А "ее глаза как тормоза" — это нисходящая метафора. ("Записные Книжки") Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары. Какая-то липкая дрянь заползала в штанину. Да и трава казалась сыроватой. Потом все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял в свои душные недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горечь рябины казалась неотделимой от влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комариного звона. Как на телеэкране, проплывали облака. И даже паутина выглядела украшением... Я готов был заплакать, хотя все еще понимал, что это действует алкоголь. Видно, гармония таилась на дне бутылки... ("Заповедник") Однажды Горбовский попросил у Кирилла Владимировича машинку. Отпечатать поэму с жизнеутверждающим названием «Морг». Успенский машинку дал. Неделя проходит, другая. И тут Кирилла Владимировича арестовывают по семидесятой. И дают ему пять строгого в разгар либерализма. Отсидел, вышел. Как-то встречает Горбовского: — Глеб, я недавно освободился. Кое-что пишу. Верни машинку. — Кирилл! — восклицает Горбовский. — Плюнь мне в рожу! Пропил я твою машинку! Все пропил! Детские счеты пропил! Обои пропил! Ободрал и пропил, не веришь?! — Верю, — сказал Успенский, — тогда отдай деньги. А то я в стесненных обстоятельствах. — Кирилл! Ты мне веришь! Ты мне единственный веришь! Дай я тебя поцелую! Хочешь, на колени рухну?! — Глеб, отдай деньги, — сказал Успенский. — Отдам! Все отдам! Хочешь — возьми мои единственные брюки! Хочешь — последнюю рубаху! А главное — плюнь в меня!.. ("Уроки чтения") Судьба Быковера довольно любопытна. Он был младшим сыном ревельского фабриканта. Окончил Кембридж. Затем буржуазная Эстония пала. Как прогрессивно мыслящий еврей, Фима был за революцию. Поступил в иностранный отдел республиканской газеты. (Пригодилось знание языков.) И вот ему дали ответственное поручение. Позвонить Димитрову в Болгарию. Заказать поздравление к юбилею Эстонской Советской Республики. Быковер позвонил в Софию. Трубку взял секретарь Димитрова. — Говорят с Таллинна, — заявил Быковер, оставаясь евреем при всей своей эрудиции. — Говорят с Таллинна, — произнес он. В ответ прозвучало: — "Дорогой товарищ Сталин! Свободолюбивый народ Болгарии приветствует вас. Позвольте от имени трудящихся рапортовать..." — Я не Сталин, — добродушно исправил Быковер, — я — Быковер. А звоню я то, что хорошо бы в смысле юбилея организовать коротенькое поздравление... Буквально пару слов... Через сорок минут Быковера арестовали. За кощунственное сопоставление. За глумление над святыней. За идиотизм. ("Компромисс") Политические обзоры вел Гуревич. Это был скромный добросовестный и компетентный человек. Правда, ему не хватало творческой смелости. Гуревич был слишком осторожен в прогнозах. Чуть ли не все его политические обзоры закапчивались словами: "Будущее покажет". Наконец я ему сказал: — Будь чуточку нахальнее. Выскажи какую-нибудь спорную политическую гипотезу. Ошибайся, черт возьми, но будь смелее. Гуревич сказал: — Постараюсь. Теперь его обзоры заканчивались словами: "Поживем — увидим". ("Ремесло") Отделом спорта заведовал Верховский, добродушный, бессловесный человек. Он неизменно пребывал в глубоком самозабвении. По темпераменту был равен мертвому кавказцу. Любая житейская мелочь побуждала Верховского к тяжким безрезультатным раздумьям. Однажды я мимоходом спросил его: — Штопор есть? Верховский задумался. Несколько раз пересек мой кабинет. Потом сказал: — Сейчас я иду обедать. Буду после трех. И мы вернемся к этому разговору. Тема интересная... ("Ремесло") Россия — единственная в мире страна, где литератору платят за объем написанного. Не за количество проданных экземпляров. И тем более — не за качество. А за объем. В этом тайная, бессознательная причина нашего катастрофического российского многословья. Допустим, автор хочет вычеркнуть какую-нибудь фразу. А внутренний голос ему подсказывает: "Ненормальный! Это же пять рублей! Кило говядины на рынке..." ("Записные Книжки") И вообще, чем провинились тараканы? Может, таракан вас когда-нибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же... Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика маленького гоночного автомобиля. Таракан не в пример комару — молчалив. Кто слышал, чтобы таракан повысил голос? Таракан знает свое место и редко покидает кухню. Таракан не пахнет. Наоборот, борцы с тараканами оскверняют жилище гнусным запахом химикатов. Мне кажется, всего этого достаточно, чтобы примириться с тараканами. Полюбить — это слишком. Но примириться, я думаю, можно. Я, например, мирюсь. И надеюсь, что это — взаимно... ("Ремесло") В трамвае красивую женщину не встретишь. В полумраке такси, откинувшись на цитрусовые сиденья, мчатся длинноногие и бессердечные — их всюду ждут. А дурнушек в забрызганных грязью чулках укачивает трамвайное море. И стекла при этом гнусно дребезжат. ("Дорога в новую квартиру") Разговоры с Михал Иванычем требовали чересчур больших усилий. Они напоминали мои университетские беседы с профессором Лихачевым. Только с Лихачевым я пытался выглядеть как можно умнее. А с этим наоборот — как можно доступнее и проще. Например, Михал Иваныч спрашивал: — Ты знаешь, для чего евреям шишки обрезают? Чтобы калган работал лучше... И я миролюбиво соглашался: — Вообще-то, да... Пожалуй, так оно и есть... ("Заповедник") Через месяц я оказался в школе надзорсостава под Ропчей. А еще через месяц инспектор рукопашного боя Торопцев, прощаясь, говорил: — Запомни, можно спастись от ножа. Можно блокировать топор. Можно отобрать пистолет. Можно все! Но если можно убежать — беги! Беги, сынок, и не оглядывайся... В моем кармане лежала инструкция. Четвертый пункт гласил: "Если надзиратель в безвыходном положении, он дает команду часовому — "СТРЕЛЯЙТЕ В НАПРАВЛЕНИИ МЕНЯ..." ("Зона") Из жизненных сумерек выделяются какие-то тривиальные факторы. Всю жизнь я дул в подзорную трубу и удивлялся, что нету музыки. А потом внимательно глядел в тромбон и удивлялся, что ни хрена не видно. Мы осушали реки и сдвигали горы, а теперь ясно, что горы надо вернуть обратно, и реки — тоже. Но я забыл, куда. Мне отомстят все тургеневские пейзажи, которые я игнорировал в юности. ("Письма к Людмиле Штерн") То, что вы претенциозно называете грунтами, на 80% состоит из полусгнивших остатков пяти миллиардов почивших на этой планете людей. Неисчислимые мегатонны человеческих экскрементов (я уж не говорю об испражнениях домашних животных, пушного зверя и птичьем помете) пропитали ту неорганизованную материю, которую вы кокетливо называете грунтами. Романтики! Наивные идеалисты! Тошнотворная смесь навоза и человеческой падали — вот предмет ваших упоительных изысканий. Разложившиеся трупы нацистов, прах Сергеева-Ценского, Павленко, Рабиндраната Тагора, моча и кал ныне здравствующих членов Союза Советских писателей (кстати, тебе известно, что в ССП в полтора раза больше членов, чем голов) таков далеко не полный перечень отталкивающих ингредиентов, которые вы, ошельмованные простаки, самозабвенно нарекли грунтами. Пока не поздно, обратите взоры к небу!!! Но и тут не будьте слишком доверчивы и рассеянны, иначе голубь, проносящийся в синеве неба, капнет вам на рыло! ("Письма к Людмиле Штерн") Высоцкий рассказывал: "Не спалось мне как-то перед запоем. Вышел на улицу. Стою у фонаря. Направляется ко мне паренек. Смотрит как на икону: "Дайте, пожалуйста автограф". А я злой, как черт. Иди ты, говорю... Недавно был в Монреале. Жил в отеле "Хилтон". И опять-таки мне не спалось. Выхожу на балкон покурить. Вижу, стоит поодаль мой любимый киноактер Чарльз Бронсон. Я к нему. Говорю по-французски: "Вы мой любимый артист..." И так далее... А тот мне в ответ: "Гет лост..." И я сразу вспомнил того парнишку..." Заканчивая эту историю, Высоцкий говорил: — Все-таки Бог есть! ("Записные Книжки") Пьянство мое затихло, но приступы депрессии учащаются, именно депрессии, т.е. беспричинной тоски, бессилия и отвращения к жизни. Лечиться не буду и в психиатрию я не верю. Просто я всю жизнь чего-то ждал: аттестата зрелости, потери девственности, женитьбы, ребенка, первой книжки, минимальных денег, а сейчас всё произошло, ждать больше нечего, источников радости нет. Главная моя ошибка — в надежде, что легализовавшись как писатель, я стану весёлым и счастливым. Этого не случилось. Состояние бывает такое, что я даже пробовал разговаривать со священником. Но он, к моему удивлению, оказался как раз счастливым, весёлым, но абсолютно неверующим человеком. ("Неповторимость любой ценой" (Игорь Ефимов)) Соседский мальчик ездил летом отдыхать на Украину. Вернулся домой. Мы его спросили: — Выучил украинский язык? — Выучил. — Скажи что-нибудь по-украински. — Например, мерси. ("Соло на ундервуде") Хармс говорил: — Телефон у меня простой — 32-08. Запоминается легко: тридцать два зуба и восемь пальцев. ("Соло на ундервуде") Мне вспоминается такая сцена. Заболел мой сокамерник, обвинявшийся в краже цистерны бензина. Вызвали фельдшера, который спросил: — Что у тебя болит? — Живот и голова. Фельдшер вынул таблетку, разломил ее на две части и строго произнес: — Это — от головы. А это — от живота. Да смотри, не перепутай... ("Ремесло") Вообще я уверен, что нищета и богатство — качества прирожденные. Такие же, например, как цвет волос или, допустим, музыкальный слух. Один рождается нищим, другой — богатым. И деньги тут фактически ни при чем. Можно быть нищим с деньгами. И — соответственно — принцем без единой копейки. Я встречал богачей среди зеков на особом режиме. Там же мне попадались бедняки среди высших чинов лагерной администрации... Бедняки при любых обстоятельствах терпят убытки. Бедняков постоянно штрафуют даже за то, что их собака оправилась в неположенном месте. Если бедняк случайно роняет мелочь, то деньги обязательно проваливаются в люк. А у богатых все наоборот. Они находят деньги в старых пиджаках. Выигрывают по лотерее. Получают в наследство дачи от малознакомых родственников. Их собаки удостаиваются на выставках денежных премий... ("Иностранка") Расходились мы около часу ночи. Шли и обсуждали Мусины проблемы. Зарецкий говорил: — Здоровая, простите, баба, не работает, живет с каким-то дикобразом... Целый день свободна. Одевается в меха и замшу. Пьет стаканами. И никаких забот... В Афганистане, между прочим, льется кровь, а здесь рекой течет шампанское!.. В Непале дети голодают, а здесь какой-то мерзкий попугай сардины жрет!.. Так где же справедливость? Тут я бестактно засмеялся. — Циник! — выкрикнул Зарецкий. Мне пришлось сказать ему: — Есть кое-что повыше справедливости! — Ого! — сказал Зарецкий. — Это интересно! Говорите, я вас с удовольствием послушаю. Внимание, господа! Так что же выше справедливости? — Да что угодно, — отвечаю. — Ну, а если более конкретно? — Если более конкретно — милосердие... ("Иностранка") — Ты писатель? Вот и догадайся. Что у женщины под юбкой, а у мужчины в голове? Григорий Борисович смущенно опускает длинные младенческие ресницы. — Не знаешь? Комбинация! — восклицает Бернович. — Ответ — комбинация! Понял? У женщины под юбкой... У мужчины в голове... Комбинация! ("Мы и гинеколог Буданицкий") Один наш приятель всю жизнь мечтал стать землевладельцем. Он восклицал: — Как это прекрасно — иметь хотя бы горсточку собственной земли! В результате друзья подарили ему на юбилей горшок с цветами. ("Записные Книжки") В ОВИРе эта сука мне и говорит: — Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла. Но я, конечно, возразил: — Всего три чемодана?! Как же быть с вещами? — Например? — Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей? — Продайте, — не вникая, откликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови: — Если вы чем-то недовольны, пишите заявление. — Я доволен, — говорю. После тюрьмы я был всем доволен. — Ну, так и ведите себя поскромнее... ("Чемодан") — Ты выпил? — спросил Безуглов. — Нет. А у тебя есть предложения? — Что ты, — замахал ручками Безуглов, — исключено. Я пью только вечером... Не раньше часу дня... Безуглова я знал давно. Человек он был своеобразный. Родом из Свердловска. Помню, собирался я в командировку на Урал. Естественно, должен был заехать в Свердловск. И как раз на майские праздники. То есть могли быть осложнения с гостиницей. Обращаюсь к Безуглову: — Могу я переночевать в Свердловске у твоих родителей? — Естественно, — закричал Безуглов, — конечно! Сколько угодно! Все будут только рады. Квартира у них — громадная. Батя — член-корреспондент, мамаша — заслуженный деятель искусств. Угостят тебя домашними пельменями... Единственное условие: не проговорись, что мы знакомы. Иначе все пропало. Ведь я с четырнадцати лет — позор семьи!.. ("Чемодан") Помню, умер старый журналист Матюшин. Кто-то взялся собирать деньги на похороны. Обратились к Шлиппенбаху. Тот воскликнул: — Я и за живого Матюшина рубля не дал бы. А за мертвого и пятака не дам. Пускай КГБ хоронит своих осведомителей... При этом Шлиппенбах без конца занимал деньги у сослуживцев и возвращал их неохотно. Список кредиторов растянулся в его журналистском блокноте на два листа. Когда ему напоминали о долге, Шлиппенбах угрожающе восклицал: — Будешь надоедать — вычеркну тебя из списка!.. ("Чемодан") На меня очень сильно подействовал рассказ Тараса Шевченко, записанный в его дневнике. Рассказ такой: "Шел я в декабре по набережной. Навстречу босяк. Дай, говорит, алтын. Я поленился расстегивать свитку. Бог, отвечаю, подаст. Иду дальше, слышу — плеск воды. Возвращаюсь бегом. Оказывается, нищий мой в проруби утопился. Люди собрались, пристава зовут... С того дня, — заканчивает Шевченко, — я всегда подаю любому нищему. А вдруг, думаю, он решил измерить на мне предел человеческой жестокости..." ("Марш одиноких") Все люди жестоки по-разному. Мужчины, например, грубят и лгут. Изворачиваются, как только могут. Однако даже самый жестокий мужчина не крикнет тебе: "Уходи! Между нами все кончено!.." Что касается женщин, то они произносят все это с легкостью и даже не без удовольствия: "Уходи! Ты мне противен! Не звони мне больше!.." Сначала они плачут и рыдают. Потом заводят себе другого и кричат: "Уходи!" Уходи! Да я такого и произнести не в состоянии... ("На улице и дома") — В СССР надо работать осторожно. Не вздумайте предлагать русским деньги. Вы рискуете получить в морду. Русских надо просить. Просите, и вам дадут. Например, вы знакомитесь в ресторане с директором военного завода. Не дай бог совать ему взятку. Вы обнимаете директора за плечи и после третьей рюмки говорите тихо и задушевно: "Вова, не в службу, а в дружбу, набросай мне на салфетке план твоего учреждения". ("Ослик должен быть худым") Семья — не ячейка государства. Семья — это государство и есть. Борьба за власть, экономические, творческие и культурные проблемы. Эксплуатация, мечты о свободе, революционные настроения. И тому подобное. Вот это и есть семья. ("Записные Книжки") Я давно уже не разделяю людей на положительных и отрицательных. А литературных героев — тем более. Кроме того, я не уверен, что в жизни за преступлением неизбежно следует раскаяние, а за подвигом — блаженство. Мы есть то, чем себя ощущаем. Наши свойства, достоинства и пороки извлечены на свет божий чутким прикосновением жизни... "Натура — ты моя богиня!" И так далее... Ладно... ("Компромисс") Как-то раз Григорий Борисович отправился за покупками. Лавка находилась в пяти минутах от колонии. Так что не было его около получаса. За это время случилось вот что. Дети, играя, забежали в четвертое бунгало. Сорвали занавеску. Опрокинули банку с настурциями. Разбросали бумаги. Писатель вернулся. Через минуту выскочил из дома разъяренный. Он кричал соседям: — Я буду жаловаться!.. Мои бумаги!.. Есть закон о неприкосновенности жилища! И после этого: — Как я завидую Генри Торо!.. — Типичный крейзи, — говорили соседи. — У него, видите ли, ценные бумаги! — Ценные бумаги! Я вас умоляю, Роза, не смешите меня! — А главное — Торой укоряет. Мол, не по-божески живете... ("Ариэль") Девушка-экскурсовод ела мороженое в тени. Я шагнул к ней: — Давайте познакомимся. — Аврора, — сказала она, протягивая липкую руку. — А я, — говорю, — танкер Дербент. Девушка не обиделась. — Над моим именем все смеются. Я привыкла... Что с вами? Вы красный! — Уверяю вас, это только снаружи. Внутри я — конституционный демократ. — Нет, правда, вам худо? — Пью много... Хотите пива? — Зачем вы пьете? — спросила она. Что я мог ответить? — Это секрет, — говорю, — маленькая тайна... ("Заповедник") — Это не ваше — "К утру подморозило..."? — Нет, — говорил я. — А это — "К утру распогодилось..."? — Нет. — А вот это — "К утру Ермил Федотович скончался..."? — Ни в коем случае. — А вот это, под названием "Марш одноногих"? — "Марш одиноких", — поправил я. Он листал рукопись, повторяя: — Посмотрим, что вы за рыбак... Посмотрим... И затем: — Здесь у вас сказано: "...И только птицы кружились над гранитным монументом..." Желательно знать, что характеризуют собой эти птицы? — Ничего, — сказал я, — они летают. Просто так. Это нормально. — Чего это они у вас летают, — брезгливо поинтересовался редактор, — и зачем? В силу какой такой художественной необходимости? — Летают, и все, — прошептал я, — обычное дело... — Ну хорошо, допустим. Тогда скажите мне, что олицетворяют птицы в качестве нравственной эмблемы? Радиоволну или химическую клетку? Хронос или Демос? От ужаса я стал шевелить пальцами ног. — Еще один вопрос, последний. Вы — жаворонок или сова? Я закричал, поджег бороду редактора и направился к выходу. ("Хочу быть сильным") К отставному полковнику Берендееву заявился дальний родственник Митя Чирков, выпускник сельскохозяйственного техникума. — Дядя, — сказал он, — помогите! Окажите материальное содействие в качестве двенадцати рублей! Иначе, боюсь, пойду неверной дорогой! — Один неверный шаг, — реагировал дядя, — ты уже сделал. Ибо просишь денег, которых у меня нет. Я же всего лишь полковник, а не генерал. — Тогда, — сказал Чирков, — разрешите у вас неделю жить и хотя бы мимоходом питаться. — И это утопия, — сказал культурный дядя, — взгляни! Видишь, как тесно у нас от импортной мебели? Где я тебя положу? Между рамами? — Дядя, — возвысил голос захолустный родственник, — не причиняйте мне упадок слез! Я сутки не ел. Между прочим, от голода я совершенно теряю рассудок. А главное — сразу иду по неверной дороге. — Дорогу осилит идущий, — не к месту сказал Берендеев. — К тому же я мерзну. Прошлую зиму, будучи холодно, я не обладал вигоневых кальсон и шапки. Знаете, чем это кончилось? Я отморозил пальцы ног и уши головы!.. ("Чирков и Берендеев") Если что-то раздражало деда, он хмурил брови и низким голосом восклицал: — АБАНАМАТ! Это таинственное слово буквально парализовало окружающих. Внушало им мистический ужас. — АБАНАМАТ! — восклицал дед. И в доме наступала полнейшая тишина. Значения этого слова мать так и не уяснила. Я тоже долго не понимал, что это слово означает. А когда поступил в университет, то неожиданно догадался. Матери же объяснять не стал. Зачем?.. ("Наши") — Это опять вы, Пирадзе? — строго говорит Натэлла. — Так я и знала. Сколько это может продолжаться?! Я давно сказала, что не буду вашей женой. Зачем вы это делаете? Зачем ежедневно стреляете в меня? Как-то раз вы уже отсидели пятнадцать суток за изнасилование. Вам этого мало, Арчил Луарсабович? — Я стал другим человеком, Натэлла. Не веришь? Я в институт поступил. Более того, я — студент. — В это трудно поверить. — У меня есть тетради и книги. Есть учебник под названием «Химия». Хочешь взглянуть? — Взятку кому-нибудь дали? — Представь себе, нет. Бесплатно являюсь студентом-заочником. — Я рада за вас. — Так вернись же, Натэлла. У тебя будет все — патефон, холодильник, корова. Мы будем путешествовать. — На чем? — На карусели. ("Блюз для Натэллы") — Я обеспокоен вашим состоянием, Джонни, — начал майор, — вы теряете форму. Недавно один из сотрудников видел вас в музее классического искусства. Вы разглядывали картины старых мастеров. Если разведчик подолгу задерживается около старинных полотен, это не к добру. Вы помните случай с майором Барлоу? Он пошел на концерт органной музыки, а через неделю выбросился из небоскреба. На месте его гибели обнаружили лишь служебный жетон. В общем, майора Барлоу хоронили в коробке из-под сигарет... ("Ослик должен быть худым") — Миша, ты любил свою жену? — Кому?! Жену-то? Бабу, в смысле? Лизку, значит? — всполошился Михал Иваныч. — Лизу. Елизавету Прохоровну. — А чего ее любить? Хвать за это дело и поехал... — Что же тебя в ней привлекало? Михал Иваныч надолго задумался. — Спала аккуратно, — выговорил он, — тихо, как гусеница... ("Заповедник") — А как у нас все было — это чистый театр. Я на домехе работал, жил один. Ну, познакомился с бабой, тож одинокая. Чтобы уродливая, не скажу — задумчивая. Стала она заходить, типа выстирать, погладить... Сошлись мы в Пасху... Вру, на Покрова... А то после работы — вакуум. Сколько можно нажираться?.. Жили с год примерно... А что она забеременела, я не понимаю... Лежит, бывало, как треска. Я говорю: "Ты, часом, не уснула?" — "Нет, — говорит, — все слышу ". — "Не много же, — говорю, — в тебе тепла". А она: "Вроде бы свет на кухне горит..." — "С чего ты взяла?" — "А счетчик-то вон как работает..." — "Тебе бы, — говорю, — у него поучиться..." Так и жили год... ("Компромисс") Божий дар как сокровище. То есть буквально — как деньги. Или ценные бумаги. А может, ювелирное изделие. Отсюда — боязнь лишиться. Страх, что украдут. Тревога, что обесценится со временем. И еще — что умрешь, так и не потратив. ("Записные Книжки") Дружок мой на ассенизационном грузовике работал. Выгребал это самое дело. И была у него подруга, шибко грамотная. "Запах, — говорит, — от тебя нехороший". А он-то что может поделать? "Зато, — говорит, — платят нормально". "Шел бы в такси", — она ему говорит. "А какие там заработки? С воробьиный пуп?"... Год проходит. Нашла она себе друга. Без запаха. А моему дружку говорит: "Все. Разлюбила. Кранты..." Он, конечно, переживает. А у тех — свадьба. Наняли общественную столовую, пьют, гуляют... Дело к ночи... Тут мой дружок разворачивается на своем говновозе, пардон... Форточку открыл, шланг туда засунул и врубил насос... А у него в цистерне тонны четыре этого самого добра... Гостям в аккурат по колено. Шум, крики, вот тебе и "Горько!"... Милиция приехала... Общественную столовую актировать пришлось. А дружок мой получил законный семерик... ("Компромисс") У хорошего человека отношения с женщинами всегда складываются трудно. А я человек хороший. Заявляю без тени смущения, потому что гордиться тут нечем. От хорошего человека ждут соответствующего поведения. К нему предъявляют высокие требования. Он тащит на себе ежедневный мучительный груз благородства, ума, прилежания, совести, юмора. А затем его бросают ради какого-нибудь отъявленного подонка. И этому подонку рассказывают, смеясь, о нудных добродетелях хорошего человека. Женщины любят только мерзавцев, это всем известно. Однако быть мерзавцем не каждому дано. У меня был знакомый валютчик Акула. Избивал жену черенком лопаты. Подарил ее шампунь своей возлюбленной. Убил кота. Один раз в жизни приготовил ей бутерброд с сыром. Жена всю ночь рыдала от умиления и нежности. Консервы девять лет в Мордовию посылала. Ждала... А хороший человек, кому он нужен, спрашивается?.. ("Компромисс") Красноперов, задевая людей чемоданом, не слыша ругательств, достиг прилавка. — Что дают? — задыхаясь, спросил он. — Читать умеете? — Да, — растерянно ответил Красноперов, — на шести языках. На листе картона было выведено зеленым фломастером: — Какой завезли, такой и продаем, — грубовато отвечала лоточница. Руки ее были серебряными от чешуи. ("Иная жизнь") В шестидесятые годы я начал что-то писать. Показал сочинения тетке. Тетка обнаружила в моих рассказах сотни ошибок. Стилистических, орфографических и пунктуационных. Она говорила: — Здесь написано: "...родство тишины и мороза..." Это неточно. Мороз и тишина — явления различного порядка. Следует писать: "В лесу было морозно и тихо". Без выкрутасов... — Как это — в лесу? — удивлялся я. — Действие происходит в штрафном изоляторе. — Ах, да, — говорила тетка... ("Наши") Лишь однажды Головкер погрузился в раздумье. Это продолжалось больше сорока минут. Затем он сказал: — Лиза, послушай. Когда я был студентом первого курса, Дима Фогель написал эпиграмму: "У Головкера Боба попа втрое шире лба!" Ты слышишь? Я тогда обиделся, а сейчас подумал — все нормально. Попа и должна быть шире лба. Причем как раз втрое, я специально измерял... — И ты, — спросила Лиза, — пять лет об этом думал? — Нет, это только сегодня пришло мне в голову... ("Встретились, поговорили") Завистники считают, что женщин привлекают в богачах их деньги. Или то что можно на эти деньги приобрести. Раньше и я так думал, но затем убедился, что это ложь. Не деньги привлекают женщин. Не автомобили и драгоценности. Не рестораны и дорогая одежда. Не могущество, богатство и элегантность. А то, что сделало человека могущественным, богатым и элегантным. Сила, которой наделены одни и полностью лишены другие. ("Филиал") Джаз — это стилистика жизни... Джазовый музыкант не исполнитель. Он — творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство — хрупкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок... Джаз — это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля... Джаз — это мы сами в лучшие наши часы. То есть, когда в нас соседствует душевный подъем, бесстрашие и откровенность... ("Довлатов и окрестности") Всех людей можно разделить на две категории. На две группы. Первая группа — это те, которые спрашивают. Вторая группа — те, что отвечают. Одни задают вопросы. А другие молчат и лишь раздраженно хмурятся в ответ. Человека, который задает вопросы, я могу узнать на расстоянии километра. Его личность ассоциируется у меня с понятием — неудачник. ("Филиал") Был ли Красноперов романтиком? Не был. Когда-то студенты-филологи праздновали Новый год в общежитии. Спать легли под утро. Красноперов разделся, снял носки. Затем аккуратно повесил их на елку. Днем возмущенные сокурсники чуть его не побили... ("Иная жизнь") Тарасевич был довольно опытным редактором и неглупым человеком. Вспоминаю, как я начинал писать для радио. Рецензировал новые книги. Назойливо демонстрировал свою эрудицию. Я употреблял такие слова, как "философема", "экстраполяция ", "релевантный". Наконец редактор вызвал меня и говорит: — Такие передачи и глушить не обязательно. Все равно их понимают только аспиранты МГУ. ("Филиал") Однажды Буш поздно ночью шел через Кадриорг. К нему подошли трое. Один из них мрачно выговорил: — Дай закурить. Как в этой ситуации поступает нормальный человек? Есть три варианта сравнительно разумного поведения. Невозмутимо и бесстрашно протянуть хулигану сигареты. Быстро пройти мимо, а еще лучше — стремительно убежать. И последнее, — нокаутировав того, кто ближе, срочно ретироваться. Буш избрал самый губительный, самый нестандартный вариант. В ответ на грубое требование Буш изысканно произнес: — Что значит — дай? Разве мы пили с вами на брудершафт?! Уж лучше бы он заговорил стихами. Его могли бы принять за опасного сумасшедшего. А так Буша до полусмерти избили. Наверное, хулиганов взбесило таинственное слово — "брудершафт". Теряя сознание, Буш шептал: — Ликуйте, смерды! Зрю на ваших лицах грубое торжество плоти!.. ("Компромисс") Неожиданно Гурин произнес: — Сколько же они народу передавили? — Кто? — не понял я. — Да эти барбосы... Ленин с Дзержинским. Рыцари без страха и укропа... Я промолчал. Откуда я знал, можно ли ему доверять. И вообще, чего это Гурин так откровенен со мной?.. Зек не успокаивался: — Вот я, например, сел за кражу, Мотыль, допустим, палку кинул не туда. У Геши что-либо на уровне фарцовки... Ни одного, как видите, мокрого дела... А эти — Россию в крови потопили, и ничего... — Ну, — говорю, — вы уж слишком... — А чего там слишком? Они-то и есть самая кровавая беспредельщина... ("Зона") Случилось это после занятий. Боря выпускал стенгазету к Дню физкультурника. Рядом толпились одноклассники. Кто-то сказал, глядя в окно: — Легавый пошел... (Легавым звали директора школы — Чеботарева.) Далее — мой брат залез на подоконник. Попросил девчонок отвернуться. Умело вычислил траекторию. И окатил Чеботарева с ног до головы... Это было невероятно и дико. В это невозможно было поверить. Через месяц некоторые из присутствующих сомневались, было ли это в действительности. Настолько чудовищно выглядела подобная сцена. Реакция директора Чеботарева тоже была весьма неожиданной. Он совершенно потерял лицо. И внезапно заголосил приблатненной лагерной скороговоркой: — Да я таких бушлатом по зоне гонял!.. Ты у меня дерьмо будешь хавать!.. Сучара ты бацильная!.. ("Наши") ...Есть что-то жалкое в корове, приниженное и отталкивающее. В ее покорной безотказности, обжорстве и равнодушии. Хотя, казалось бы, и габариты, и рога... Обыкновенная курица и та выглядит более независимо. А эта — чемодан, набитый говядиной и отрубями... Впрочем, я их совсем не знаю... ("Компромисс") Встретил я экономиста Фельдмана. Он говорит: — Вашу жену зовут Софа? — Нет, — говорю, — Лена. — Знаю. Я пошутил. У Вас нет чувства юмора. Вы, наверное, латыш? — Почему латыш? — Да я же пошутил. У Вас совершенно отсутствует чувство юмора. Может, к логопеду обратитесь? — Почему к логопеду? — Шучу, шучу. Где Ваше чувство юмора? ("Записные Книжки") Иногда меня посещают такие фантазии. Закончилась война. Америка капитулировала. Русские пришли в Нью-Йорк. Открыли здесь свою комендатуру. Пришлось им, наконец, решать, что делать с эмигрантами. С учеными, писателями, журналистами, которые занимались антисоветской деятельностью. Вызвал нас комендант и говорит: — Вы, наверное, ожидаете смертной казни? И вы ее действительно заслуживаете. Лично я собственными руками шлепнул бы вас у первого забора. Но это слишком дорогое удовольствие. Не могу я себе этого позволить! Кого я посажу на ваше место? Где я возьму других таких отчаянных прохвостов? Воспитывать их заново — мы не располагаем такими средствами. Это потребует слишком много времени и денег… Поэтому слушайте! Смирно, мать вашу за ногу! Ты, Куроедов, был советским философом. Затем стал антисоветским философом. Теперь опять будешь советским философом. Понял? — Слушаюсь! — отвечает Куроедов. — Ты, Левин, был советским писателем. Затем стал антисоветским писателем. Теперь опять будешь советским писателем. Ясно? — Слушаюсь! — отвечает Левин. — Ты, Далматов, был советским журналистом. Затем стал антисоветским журналистом. Теперь опять будешь советским журналистом. Не возражаешь? — Слушаюсь! — отвечает Далматов. — А сейчас, — говорит, — вон отсюда! И помните, что завтра на работу! ("Филиал") — Вы спали? — поинтересовалась Галина. Я горячо возразил. Я давно заметил, что на этот вопрос люди реагируют с излишней горячностью. Задайте человеку вопрос: "Бывают ли у тебя запои?" — и человек спокойно ответит — нет. А может быть, охотно согласится. Зато вопрос "Ты спал?" большинство переживает чуть ли не как оскорбление. Как попытку уличить человека в злодействе... ("Заповедник") ...Что значит — шляешься?! Я был в командировке в Сааремаа. Меня в гостинице клопы покусали... — Это не клопы, — подозрительно сощурилась Марина, — это бабы. Отвратительные, грязные шлюхи. И чего они к тебе лезут? Вечно без денег, вечно с похмелья... Удивляюсь, как ты до сих пор не заразился... — Чем можно заразиться у клопа? — Ты хоть не врал бы! Кто эта рыжая, вертлявая дылда? Я тебя утром из автобуса видела... — Это не рыжая, вертлявая дылда. Это — поэт-метафизик Владимир Эрль. У него такая прическа... ("Компромисс") Оленьке должно было исполниться тринадцать лет. Головкер не то чтобы любил эту печальную хрупкую девочку. Он к ней привык. Тем более что она, почти единственная в мире, испытывала к нему уважение. Когда мать ее наказывала, она просила: — Дядя Боря, купите мне яду... ("Встретились, поговорили") Абрикосов — поэт. И голова у него работает по-своему: — Кстати, о фамилиях. Ответь мне на такой вопрос. Почему Рубашкиных сколько угодно, а Брючниковых, например, единицы? Огурцовы встречаются на каждом шагу, а где, извини меня, Помидоровы? Он на секунду задумался и продолжал: — Почему Столяровых миллионы, а Фрезеровщиковых — ни одного? Еще одна короткая пауза, и затем: — Я лично знал азербайджанского критика Шарила Гудбаева. А вот Хаудуюдуевы мне что-то не попадались. Абрикосов заметно воодушевился. Голос его звучал все тверже и убедительнее: — Носовых завались, а Ротовых, прямо скажем, маловато. Тюльпановы попадаются, а Георгиновых я лично не встречал. Абрикосов высказывался с нарастающим пафосом: — Щукиных и Судаковых — тьма, а где, например, Хариусовы или, допустим, Форелины? В голосе поэта зазвучали драматические нотки: — Львовых сколько угодно, а кто встречал хоть одного человека по фамилии Тигров? ("Филиал") — Знаешь, о чем я мечтаю, Аркадий? Я мечтаю приобрести диван-кровать и целый день на нем лежать. — Это как стихи, — сказал Дысин. — Стихи я тоже уважаю, — сказал Гарбузенко. — Эх, Коля! — печально молвил Дысин и вздохнул. ("Победители") Брежнева мой дядя не любил. Брежнев казался ему временным явлением (что не подтвердилось)... В последние годы жизни он был чуть ли не диссидентом. Но диссидентом умеренным. Власова не признавал. Солженицына уважал выборочно. Брежневу мой дядя посылал анонимные записки. Он писал их в сберегательной кассе фиолетовыми чернилами. К тому же левой рукой и печатными буквами. Записки были короткие. Например: "Куда ведешь Россию, монстр?" И подпись: "Генерал Свиридов". Или: "БАМ — это фикция!" И подпись: "Генерал Колюжный". Иногда он пользовался художественной формой: "Твои брови жаждут крови!" И подпись: "Генерал Нечипоренко"... ("Наши") Горбачев побывал на спектакле Марка Захарова. Поздно вечером звонит режиссеру: — Поздравляю! Спектакль отличный! Это — пердуха! Захаров несколько смутился и думает: "Может, у номенклатуры такой грубоватый жаргон? Если им что-то нравится, они говорят: "Пердуха! Настоящая пердуха!" А Горбачев твердит свое: — Пердуха! Пердуха! Наконец Захаров сообразил: "Пир духа!" Вот что подразумевал генеральный секретарь. ("Записные Книжки") В Пушкинских Горах туристы очень любознательные. Задают экскурсоводам странные вопросы: — Кто, собственно, такой Борис Годунов? — Из-за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым? — Где здесь проходила "Болдинская осень"? — Бывал ли Пушкин в этих краях? — Как отчество младшего сына А.С.Пушкина? — Была ли А.П.Керн любовницей Есенина?!.. А в Ленинграде у знакомого экскурсовода спросили: — Что теперь находится в Смольном — Зимний?.. И наконец, совсем уже дикий вопрос: — Говорят, В.И.Ленин умел плавать задом. Правда ли это? ("Записные Книжки") Живописец Лобанов праздновал именины своего хомяка. В мансарду с косым потолком набилось человек двенадцать. Все ждали Целкова, который не пришел. Сидели на полу, хотя стульев было достаточно. К ночи застольная беседа переросла в дискуссию с оттенком мордобоя. Бритоголовый человек в тельняшке, надсаживаясь, орал: — Еще раз повторяю, цвет — явление идеологическое!.. (Позднее выяснилось, что он совсем не художник, а товаровед из Апраксина Двора.) Эта невинная фраза почему-то взбесила одного из гостей, художника-шрифтиста. Он бросился па товароведа с кулаками. Но тот, как все бритоголовые мужчины, оказался силачом и действовал решительно. Он мгновенно достал изо рта вставной зуб на штифтовом креплении... Быстро завернул его в носовой платок. Сунул в карман. И наконец принял боксерскую стойку. К этому времени художник остыл. Он ел фаршированную рыбу, то и дело восклицая; — Потрясающая рыба! Я хотел бы иметь от нее троих детей... ("Заповедник") Произошло это в грузинском ресторане. Скончался у молоденькой официантки дед. Хозяин отпустил ее на похороны. Час официантки нет, два, три. Хозяин ресторана нервничает — куда, мол, она могла подевалась?! Некому, понимаешь, работать... Наконец официантка вернулась. Хозяин ей сердито говорит: — Где ты пропадала, слушай? Та ему в ответ: — Да ты же знаешь, Гоги, я была на похоронах. Это же целый ритуал, и все требует времени. Хозяин еще больше рассердился: — Что я, похороны не знаю?! Зашел, поздравил и ушел! ("Записные Книжки") У моего еврейского деда было три сына. (Да не смутит вас эта обманчивая былинная нота.) Звали сыновей — Леопольд, Донат и Михаил. Младшему, Леопольду, как бы умышленно дали заморское имя. Словно в расчете на его космополитическую биографию. Имя Донат — неясного, балтийско-литовского происхождения. (Что соответствует неясному положению моего отца. В семьдесят два года он эмигрировал из России.) Носитель чисто православного имени, Михаил, скончался от туберкулеза в блокадном Ленинграде. Согласитесь, имя в значительной степени определяет характер и даже биографию человека. Анатолий почти всегда нахал и забияка. Борис — склонный к полноте холерик. Галина — крикливая и вульгарная склочница. Зоя — мать-одиночка. Алексей — слабохарактерный добряк. В имени Григорий я слышу ноту материального достатка. В имени Михаил — глухое предвестие ранней трагической смерти. (Вспомните Лермонтова, Кольцова, Булгакова...) И так далее... ("Наши") Вечером нам показывали достопримечательности. Сам я ко всему этому равнодушен. Особенно к музеям. Меня всегда угнетало противоестественное скопление редкостей. Глупо держать в помещении больше одной картины Рембрандта… Сначала нам показывали каньон, что-то вроде ущелья. Увязавшийся с нами Ковригин поглядел и говорит: — Под Мелитополем таких каньонов до хрена! Мы поехали дальше. Осмотрели сельскохозяйственную ферму: жилые постройки, зернохранилище, конюшню. Ковригин недовольно сказал: — Наши лошади в три раза больше! — Это пони, — сказал мистер Хиггинс. — Я им не завидую. — Естественно, — заметил Хиггинс, — это могло бы показаться странным. Затем мы побывали в форте Ромпер. Ознакомились с какой-то исторической мортирой. Ковригин заглянул в ее холодный ствол и отчеканил: — То ли дело наша зенитная артиллерия! ("Филиал") У директора Ленфильма Киселева был излюбленный собирательный образ. А именно — Дунька Распердяева. Если директор был недоволен кем-то из сотрудников Ленфильма, он говорил: — Ты ведешь себя как Дунька Распердяева... Или: — Монтаж плохой. Дунька Распердяева и та смонтировала бы лучше... Или: — На кого рассчитан фильм? На Дуньку Распердяеву?!.. И так далее... Как-то раз на Ленфильм приехала Фурцева. Шло собрание в актовом зале. Киселев произносил речь. В этой речи были нотки самокритики. В частности, директор сказал: — У нас еще много пустых, бессодержательных картин. Например, "Человек ниоткуда". Можно подумать, что его снимала Дунька... И тут директор запнулся. В президиуме сидит министр культуры Фурцева. Звучит не очень-то прилично. Кроме всего прочего — дама. И тут вдруг — Дунька Распердяева. Звучит не очень-то прилично. Киселев решил смягчить формулировку. Можно подумать, что его снимала Дунька... Раздолбаева, — закончил он. И тут долетел из рядов чей-то бесхитростный возглас: — А что, товарищ Киселев, никак Дунька Распердяева замуж вышла?! ("Записные Книжки") Отец стал писать для эстрады. Он сочинял фельетоны, куплеты, миниатюры, интермедии. Он стал профессиональным репризером и целыми днями выдумывал шутки. А это занятие, как известно, начисто лишает человека оптимизма. Одну его стихотворную репризу я запомнил навсегда: Я спросил отца, что все это значит? Как связаны понятия в этом безумном четверостишии? Отец рассердился и закричал трагическим высоким голосом: — Ты не улавливаешь сути! Ты просто лишен чувства юмора!.. Он задумался. Уединился минут па сорок. И затем торжествующе огласил новый вариант: — Ну как? — спросил он. — Огурцы продаются на каждом шагу, — сказала мать. — Ну и что? — А то, что это — не жизненно. — Что не жизненно? Что именно — не жизненно? — Да это — "огурцов в сельмаге нет...". Ты бы лучше написал про говяжьи сардельки. Отец схватил себя за волосы и крикнул: — При чем тут сардельки?! Я вам не домохозяйка! Ваша пошлая жизнь меня совершенно не интересует!.. "Не жизненно!" — повторял отец, запираясь в своем кабинете... ("Наши") В холле было пусто. Рейнхард возился с калькулятором. — Я хочу заменить линолеум, — сказал он. — Неплохая мысль. — Давай выпьем. — С удовольствием. — Рюмки взяли парни из чешского землячества. Ты можешь пить из бумажных стаканчиков? — Мне случалось пить из футляра для очков. Рейнхард уважительно приподнял брови. Мы выпили по стакану бренди. — Можно здесь и переночевать, — сказал он, — только диваны узкие. — Мне доводилось спать в гинекологическом кресле. Рейнхард поглядел на меня с еще большим уважением. Мы снова выпили. — Я не буду менять линолеум, — сказал он. — Я передумал, ибо мир обречен... ("Наши") Маруся долго перелистывала русскую газету. Внимательно читала объявления. В Манхеттене открывались курсы дамских парикмахеров. Страховая компания набирала молодых честолюбивых агентов. Русскому ночному клубу требовались официантки, предпочтительно мужчины. Так и было напечатано — "официантки, предпочтительно мужчины". Все это было реально, но малопривлекательно. Кого-то стричь? Кого-то страховать? Кому-то подавать закуски?.. Попадались и такие объявления: "Хорошо устроенный джентльмен мечтает познакомиться с интеллигентной женщиной любого возраста. Желательно фото". Ниже примечание мелким шрифтом: "Только не из Харбина". Что значит — только не из Харбина, удивлялась Маруся, как это понимать? Чем ему досадил этот несчастный Харбин? А может быть, он сам как раз из Харбина? Может, весь Харбин его знает как последнего жулика и афериста?.. Хорошо устроенный джентльмен ищет женщину любого возраста... Желательно фото... Зачем ему фото, думала Маруся, только расстраиваться?.. ("Иностранка") Оказались мы как-то в ресторане Союза журналистов. Подружились с официанткой. Угостили ее коньяком. Даже вроде бы мило ухаживали за ней. А она нас потом обсчитала. Если мне не изменяет память, рублей на семь. Я возмутился, но мой приятель Грубин сказал: — Официант как жаворонок. Жаворонок поет не оттого, что ему весело. Пение — это функция организма. Так устроена его гортань. Официант ворует не потому, что хочет тебе зла. Официант ворует даже не из корысти. Воровство для него — это функция. Физиологическая потребность организма. ("Записные Книжки") Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его: — Что, в двух словах, происходит на родине? Карамзину и двух слов не понадобилось. — Воруют, — ответил Карамзин... Действительно, воруют. И с каждым годом все размашистей. С мясокомбината уносят говяжьи туши. С текстильной фабрики — пряжу. С завода киноаппаратуры — линзы. Тащат все — кафель, гипс, полиэтилен, электромоторы, болты, шурупы, радиолампы, нитки, стекла. Зачастую все это принимает метафизический характер. Я говорю о совершенно загадочном воровстве без какой-либо разумной цели. Такое, я уверен, бывает лишь в российском государстве. Я знал тонкого, благородного, образованного человека, который унес с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома. Другой мой приятель взломал агитпункт. Вынес избирательную урну. Притащил ее домой и успокоился. Третий мой знакомый украл огнетушитель. Четвертый унес из кабинета своего начальника бюст Поля Робсона. Пятый — афишную тумбу с улицы Шкапина. Шестой — пюпитр из клуба самодеятельности. .. ("Чемодан") Есть в газетном деле одна закономерность. Стоит пропустить единственную букву — и конец. Обязательно выйдет либо непристойность, либо — хуже того — антисоветчина. (А бывает и то и другое вместе.) Взять, к примеру, заголовок: "Приказ главнокомандующего". "Главнокомандующий" — такое длинное слово, шестнадцать букв. Надо же пропустить именно букву "л". А так чаще всего и бывает. Или: "Коммунисты осуждают решения партии" (вместо — "обсуждают"). Или: "Большевистская каторга" (вместо — "когорта "). Как известно, в наших газетах только опечатки правдивы... ("Наши") Ефрейтор Гаенко вырос среди пермской шпаны, где и приобрел сомнительный жизненный опыт, истерическую смелость и витиеватый блатной оттенок в разговоре. Наука давалась ему легко, с сержантами он был на ты, одежду свою без конца перешивал и любил смущать замполита каверзными вопросами: — А отчего, к примеру, в той же сэшэа каждый чучмек автомобиль имеет, а у нас одни доценты, генералы и ханурики? Рябову часто шли посылки, и ефрейтор охотно делился с другом, которому мать, нянечка детского сада, только писала, да и то изредка: "Может, ты в армии станешь на человека похож. А то совсем не знаю, что и делать. Так и сказала майору в военном комате: или он будет человек, или держите его под замком. Боюсь я за тебя, Андрюша, повис ты надо мной, сынок, как домкратов меч..." Начальство ценило в Рябове послушание, а Гаенко многое прощалось за ум и так называемую смекалку. Как-то раз Гаенко напился, уронил питьевой бачок и обозвал сержанта Куципака генералиссимусом. Его вызвали на комсомольское собрание дивизиона... — Обещаю, — сказал, чуть не плача, ефрейтор, — обещаю, товарищи, больше не буду. Пить больше не буду! Потом он сел и тихо добавил: — И меньше тоже не буду... ("Солдаты на Невском") Дело было в пивной. Привязался ко мне незнакомый алкаш. — Какой, — спрашивает, — у тебя рост? — Никакого, — говорю. (Поскольку этот вопрос мне давно надоел.) Слышу: — Значит, ты пидараст?! — Что-о?! — Ты скаламбурил, — ухмыльнулся пьянчуга, — и я скаламбурил! ("Записные Книжки") Ко мне застенчиво приблизился мужчина в тирольской шляпе: — Извините, могу я задать вопрос? — Слушаю вас. — Это дали? — То есть? — Я спрашиваю, это дали? — Тиролец увлек меня к распахнутому окну. — В каком смысле? — В прямом. Я хотел бы знать, это дали или не дали? Если не дали, так и скажите. — Не понимаю. Мужчина слегка покраснел и начал торопливо объяснять: — У меня была открытка… Я — филокартист… — Кто? — Филокартист. Собираю открытки… Филос — любовь, картос… — Ясно. — У меня есть цветная открытка — "Псковские дали". И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить — это дали? — В общем-то, дали, — говорю. — Типично псковские? — Не без этого. Мужчина, сияя, отошел… ("Заповедник") Тарасович давно интересовался: — Есть у тебя какие-нибудь политические идеалы? — Не думаю. — А какое-нибудь самое захудалое мировоззрение? — Мировоззрения нет. — Что же у тебя есть? — Миросозерцание. — Разве это не одно и то же? — Нет. Разница примерно такая же, как между штатным сотрудником и внештатным. — По-моему, ты чересчур умничаешь. — Стараюсь. — И все-таки, как насчет идеалов? Ты же служишь на политической радиостанции. Идеалы бы тебе не помешали. — Это необходимо? — Для штатных работников — необходимо. Для внештатных — желательно. — Ну, хорошо, — говорю, — тогда слушай. Я думаю, через пятьдесят лет мир будет единым. Хорошим или плохим — это уже другой вопрос. Но мир будет единым. С общим хозяйством. Без всяких политических границ. Все империи рухнут, образовав единую экономическую систему… — Знаешь что, — сказал редактор, — лучше уж держи такие идеалы при себе. Какие-то они чересчур прогрессивные. ("Филиал") Мои собутыльники дружески беседовали. Зэк объяснял: — Голова у меня не в порядке. Опять-таки, газы... Ежели по совести, таких бы надо всех освободить. Списать вчистую по болезни. Списывают же устаревшую технику. Чурилин перебивал его: — Голова не в порядке?! А красть ума хватало? У тебя по документам групповое хищение. Что же ты, интересно, похитил? Зэк смущенно отмахивался: — Да ничего особенного... Трактор... — Цельный трактор?! — Ну. — И как же ты его похитил? — Очень просто. С комбината железобетонных изделий. Я действовал на психологию. — Как это? — Зашел на комбинат. Сел в трактор. Сзади привязал железную бочку из-под тавота. Еду на вахту. Бочка грохочет. Появляется охранник: "Куда везешь бочку?". Отвечаю: "По личной надобности". — "Документы есть?" — "Нет". — "Отвязывай к едрене фене"... Я бочку отвязал и дальше поехал. В общем, психология сработала... А потом мы этот трактор на запчасти разобрали... ("Чемодан") Поразительно устроен российский алкаш. Имея деньги — предпочитает отраву за рубль сорок. Сдачу не берет… Да я и сам такой… Мы вернулись к окну. Народу в ресторане заметно прибавилось. Кто-то даже заиграл на гармошке. — Узнаю тебя, Русь! — воскликнул Марков и чуть потише добавил: — Ненавижу… Ненавижу это псковское жлобье!.. Пардон, сначала выпьем. Мы выпили. Становилось шумно. Гармошка издавала пронзительные звуки. Мой новый знакомый возбужденно кричал: — Взгляни на это прогрессивное человечество! На эти тупые рожи! На эти тени забытых предков!.. Живу здесь, как луч света в темном царстве… Эх, поработила бы нас американская военщина! Может, зажили бы, как люди, типа чехов… Он хлопнул ладонью по столу: — Свободы желаю! Желаю абстракционизма с додекакофонией!.. Вот я тебе скажу… ("Заповедник") Юрий Олеша подписывал договор с филармонией. Договор был составлен традиционно: "Юрий Карлович Олеша, именуемый в дальнейшем "автор"... Московская государственная филармония, именуемая в дальнейшем "заказчик"... Заключают настоящий договор в том, что автор обязуется..." И так далее. Олеша сказал: — Меня такая форма не устраивает. — Что именно вас не устраивает? — Меня не устраивает такая форма: "Юрий Карлович Олеша, именуемый в дальнейшем "автор". — А как же вы хотите? — Я хочу по-другому. — Ну так как же? — Я хочу так: "Юрий Карлович Олеша, именуемый в дальнейшем — "Юра". ("Записные Книжки") Функционер — очень емкое слово. Занимая официальную должность, ты становишься человеком функции. Вырваться за диктуемые ею пределы невозможно без губительного скандала. Функция подавляет тебя. В угоду функции твои представления незаметно искажаются. И ты уже не принадлежишь себе. ("Ремесло") Секретарь партийной организации Л. Кокк. Встает, дожидается полной тишины: — Товарищи! Свойственно ли человеку испражняться? Да, свойственно. Но разве только из этого состоит наша жизнь?.. Существует ли у нас гомосексуализм? Да, в какой-то мере пока существует. Значит ли это, что гомосексуализм — единственный путь?.. Довлатов изображает самое гнусное, самое отталкивающее... Все его герои — уголовники, наркоманы, антисемиты... Б. Нейфах: — Антисемитизма мы ему не простим! И. Гаспль: — Но есть и проявления сионизма. К. Малышев: — В принципе, это одно и то же... Л. Кокк: — Я много бывал за границей. Честно скажу, живут неплохо... Был я у одного миллионера. Хорошая квартира, дача... Но все это куплено ценой моральной деградации... Вот говорят — свобода! Свобода на Западе есть. Для тех, кто прославляет империализм... Теперь возьмем одежду. Конечно, синтетика дешевая... Помню, брал я мантель в Стокгольме... Редактор Г. Туронок: — Вы несколько отвлеклись. Л. Кокк: — Я заканчиваю. Возьмем наркотики. Они, конечно, дают забвение, но временное... А про сексуальную революцию я и говорить не хочу... ("Ремесло") Родина — это мы сами. Наши первые игрушки. Перешитые курточки старших братьев. Бутерброды, завернутые в газету. Девочки в строгих коричневых юбках. Мелочь из отцовского кармана. Экзамены, шпаргалки... Нелепые, ужасающие стихи... Мысли о самоубийстве... Стакан "Агдама" в подворотне... Армейская махорка... Дочка, варежки, рейтузы, подвернувшийся задник крошечного ботинка... Косо перечеркнутые строки... Рукописи, милиция, ОВИР... Все, что с нами было, — родина. И все, что было, — останется навсегда... ("Ремесло") В детстве у меня была няня, Луиза Генриховна. Она все делала невнимательно, потому что боялась ареста. Однажды Луиза Генриховна надевала мне короткие штаны. И засунула мои ноги в одну штанину. В результате я проходил таким образом целый день. Мне было четыре года, и я хорошо помню этот случай. Я знал, что меня одели неправильно. Но я молчал. Я не хотел переодеваться. Да и сейчас не хочу... ("Чемодан") Зарецкий был опытным ловеласом. Его тактические приемы заключались в следующем. Первое — засидеться до глубокой ночи. Обнаружить, что автобусы не ходят. Брать такси — дороговато... Далее — "Разрешите мне посидеть в этом кресле?" Или — "Можно я лягу рядом чисто по-товарищески?.." Затем он начинал дрожать и вскрикивать. Оттолкнуть его в подобных случаях у женщин не хватало духа. Неудовлетворенная страсть могла обернуться психическим расстройством. И более того — разрывом сердца. Зарецкий плакал и скандалил. Угрожал и требовал. Он клялся женщинам в любви. К тому же предлагал им заняться совместной научной работой. Порой ему уступали даже самые несговорчивые... ("Иностранка") В психиатрической больнице содержался некий Муравьев. Он все хотел повеситься. Сначала на галстуке. Потом на обувном шнурке. Вещи у него отобрали — ремень, подтяжки, шарф. Вилки ему не полагалось. Ножа тем более. Даже авторучку он брал в присутствии медсестры. И вот однажды приходит доктор. Спрашивает: — Ну, как дела, Муравьев? — Ночью голос слышал. — Что же он тебе сказал? — Приятное сказал. — Что именно? — Да так, порадовал меня. — Ну, а все-таки, что он сказал? — Он сказал: "Хороши твои дела, Муравьев! Ох, хороши!.." ("Записные книжки") Академик Козырев сидел лет десять. Обвиняли его в попытке угнать реку Волгу. То есть буквально угнать из России — на Запад. Козырев потом рассказывал: — Я уже был тогда грамотным физиком. Поэтому, когда сформулировали обвинение, я рассмеялся. Зато, когда объявили приговор, мне было не до смеха. ("Записные книжки") Надежда Федоровна уже хлопотала в огороде. Над картофельной ботвой возвышался ее широкий зад. Она спросила: — Это что же, барышня твоя? — Жена, — говорю. — Не похоже. Уж больно симпатичная. Женщина насмешливо оглядела меня: — Хорошо мужикам. Чем страшнее, тем у него жена красивше. — Что же во мне такого страшного? — На Сталина похож... ("Заповедник") Кошмар сталинизма даже не в том, что погибли миллионы. Кошмар сталинизма в том, что была развращена целая нация. Жены предавали мужей. Дети проклинали родителей. Сынишка репрессированного коминтерновца Пятницкого говорил: — Мама! Купи мне ружье! Я застрелю врага народа — папку!.. Кто же открыто противостоял сталинизму? Увы, не Якир, Тухачевский, Егоров или Блюхер. Открыто противостоял сталинизму девятилетний Максим Шостакович. Шел 48 год. Было опубликовано знаменитое постановление ЦК. Шостаковича окончательно заклеймили как формалиста. Отметим, что народные массы при этом искренне ликовали. И как обычно выражали свое ликование путем хулиганства. Попросту говоря, били стекла на даче Шостаковича. И тогда девятилетний Максим Шостакович соорудил рогатку. Залез на дерево. И начал стрелять в марксистско-ленинскую эстетику. ("Записные книжки") |