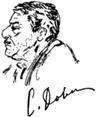
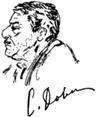 |
Sergei Dovlatov :: Сергей Довлатов >> ЛИТЕРАТУРА >> |
Зона: Записки надзирателя. — Ann Arbor: «Эрмитаж», 1982.
Дорогой Игорь Маркович!
Рискую
обратиться к Вам с деликатным предложением. Суть его такова.
Вот уже три года я собираюсь издать
мою лагерную книжку. И все три года — как можно быстрее.
Более того, именно "Зону" мне следовало
напечатать ранее всего остального. Ведь с этого началось мое злополучное
писательство.
Как выяснилось, найти издателя чрезвычайно
трудно. Мне, например, отказали двое. И я не хотел бы этого скрывать.
Мотивы отказа почти стандартны. Вот,
если хотите, основные доводы:
Лагерная тема исчерпана. Бесконечные тюремные
мемуары надоели читателю. После Солженицына тема должна быть закрыта...
Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется,
я не Солженицын. Разве это лишает меня права на существование?
Да и книги наши совершенно разные. Солженицын
описывает политические лагеря. Я — уголовные. Солженицын был заключенным.
Я — надзирателем. По Солженицыну лагерь — это ад. Я же думаю, что ад —
это мы сами...
Поверьте, я не сравниваю масштабы дарования.
Солженицын — великий писатель и огромная личность. И хватит об этом.
Другое соображение гораздо убедительнее.
Дело в том, что моя рукопись законченным произведением не является.
Это — своего рода дневник, хаотические записки,
комплект неорганизованных материалов.
Мне казалось, что в этом беспорядке прослеживается
общий художественный сюжет. Там действует один лирический герой. Соблюдено
некоторое единство места и времени. Декларируется в общем-то единственная
банальная идея — что мир абсурден...
Издателей смущала такая беспорядочная
фактура. Они требовали более стандартных форм.
Тогда я попытался навязать им "Зону"
в качестве сборника рассказов. Издатели сказали, что это нерентабельно.
Что публика жаждет романов и эпопей.
Дело осложнялось тем, что "Зона" приходила
частями. Перед отъездом я сфотографировал рукопись на микропленку. Куски
ее мой душеприказчик раздал нескольким отважным француженкам. Им удалось
провезти мои сочинения через таможенные кордоны. Оригинал находится в Союзе.
В течение нескольких лет я получаю крошечные
бандероли из Франции. Пытаюсь составить из отдельных кусочков единое целое.
Местами пленка испорчена. (Уж не знаю, где ее прятали мои благодетельницы.)
Некоторые фрагменты утрачены полностью.
Восстановление рукописи с пленки на бумагу
— дело кропотливое. Даже в Америке с ее технической мощью это нелегко.
И, кстати, недешево.
На сегодняшний день восстановлено процентов
тридцать.
С этим письмом я высылаю некоторую часть готового
текста. Следующий отрывок вышлю через несколько дней. Остальное получите
в ближайшие недели. Завтра же возьму напрокат фотоувеличитель.
Может быть, нам удастся соорудить из
всего этого законченное целое. Кое-что я попытаюсь восполнить своими безответственными
рассуждениями.
Главное — будьте снисходительны. И, как говорил
зек Хамраев, отправляясь на мокрое дело, — с Богом!..
Старый Калью Пахапиль ненавидел
оккупантов. А любил он, когда пели хором, горькая брага нравилась ему да
маленькие толстые ребятишки.
— В здешних краях должны жить одни эстонцы,
— говорил Пахапиль, — и больше никто. Чужим здесь нечего делать...
Мужики слушали его, одобрительно кивая головами.
Затем пришли немцы. Они играли на гармошках, пели, угощали детей шоколадом.
Старому Калью все это не понравилось. Он долго молчал, потом собрался и
ушел в лес.
Это был темный лес, издали казавшийся непроходимым.
Там Пахапиль охотился, глушил рыбу, спал на еловых ветках. Короче — жил,
пока русские не выгнали оккупантов. А когда немцы ушли, Пахапиль вернулся.
Он появился в Раквере, где советский капитан наградил его медалью. Медаль
была украшена четырьмя непонятными словами, фигурой и восклицательным знаком.
"Зачем эстонцу медаль?" — долго раздумывал Пахапиль.
И все-таки бережно укрепил ее на лацкане шевиотового
пиджака. Этот пиджак Калью надевал только раз — в магазине Лансмана.
Так он жил и работал стекольщиком. Но когда русские
объявили мобилизацию, Пахапиль снова исчез.
— Здесь должны жить эстонцы, — сказал он, уходя, — а ванькам,
фрицам и различным гренланам тут не место!..
Пахапиль снова ушел в лес, только издали казавшийся
непроходимым. И снова охотился, думал, молчал. И все шло хорошо.
Но русские предприняли облаву. Лес огласился криком.
Он стал тесным, и Пахапиля арестовали. Его судили как дезертира, били,
плевали в лицо. Особенно старался капитан, подаривший ему медаль.
А затем Пахапиля сослали на юг, где живут казахи.
Там он вскоре и умер. Наверное, от голода и чужой земли...
Его сын Густав окончил мореходную школу в Таллинне,
на улице Луизе, и получил диплом радиста.
По вечерам он сидел в Мюнди-баре и говорил легкомысленным
девушкам:
— Настоящий эстонец должен жить в Канаде! В Канаде,
и больше нигде...
Летом его призвали в охрану. Учебный пункт был расположен
на станции Иоссер. Все делалось по команде: сон, обед, разговоры. Говорили
про водку, про хлеб, про коней, про шахтерские заработки. Все это Густав
ненавидел и разговаривал только по-своему. Только по-эстонски. Даже с караульными
псами.
Кроме того, в одиночестве — пил, если мешали — дрался.
А также допускал — "инциденты женского порядка". (По выражению замполита
Хуриева.)
— До чего вы эгоцентричный, Пахапиль! — осторожно
корил его замполит.
Густав смущался, просил лист бумаги и коряво выводил:
"Вчера, сего года, я злоупотребил алкогольный напиток. После чего уронил
в грязь солдатское достоинство. Впредь обещаю. Рядовой Пахапиль".
После некоторого раздумья он всегда добавлял:
"Прошу не отказать".
Затем приходили деньги от тетушки Рээт. Пахапиль
брал в магазине литр шартреза и отправлялся на кладбище. Там в зеленом
полумраке белели кресты. Дальше, на краю водоема, была запущенная могила
и рядом — фанерный обелиск. Пахапиль грузно садился на холмик, выпивал
и курил.
— Эстонцы должны жить в Канаде, — тихо бормотал
он под мерное гудение насекомых. Они его почему-то не кусали...
Ранним утром прибыл в часть невзрачный
офицер. Судя по очкам — идеологический работник. Было объявлено собрание.
— Заходи в ленкомнату, — прокричал дневальный
солдатам, курившим около гимнастических брусьев.
— Политику не хаваем! — ворчали солдаты.
Однако зашли и расселись.
— Я был тоненькой стрункой грохочущего концерта
войны, — начал подполковник Мар.
— Стихи, — разочарованно протянул латыш Балодис...
За окном каптенармус и писарь ловили
свинью. Друзья обвязали ей ноги ремнем и старались затащить по трапу в
кузов грузового автомобиля. Свинья дурно кричала, от ее пронзительных воплей
ныл затылок. Она падала на брюхо. Копыта ее скользили по испачканному навозом
трапу. Мелкие глаза терялись в складках жира.
Через двор прошел старшина Евченко. Он пнул свинью
ногой. Затем подобрал черенок лопаты, бесхозно валявшийся на траве...
...— В частях Советской Армии развивается
благородная традиция, — говорил подполковник Мар.
И дальше:
— Солдаты и офицеры берут шефство над могилами павших
воинов. Кропотливо воссоздают историю ратного подвига. Устанавливают контакты
с родными и близкими героев. Всемерно развивать и укреплять подобную традицию
— долг каждого. Пускай злопыхатели в мире чистогана трубят насчет конфликта
отцов и детей. Пускай раздувают легенду о вымышленном антагонизме между
ними... Наша молодежь свято чтит захоронения отцов. Утверждая таким образом
неразрывную связь поколений...
Свинью волокли по шершавой доске. Борта
машины гулко вздрагивали. Они были выкрашены светло-зеленой краской.
Шофер наблюдал за происходящим, высунувшись из кабины.
Рядом вертелся на турнике молдаванин Дастян, комиссованный
по болезни. Он ждал приказа командира части и гулял без ремня, тихо напевая...
— Ваша рота дислоцирована напротив кладбища,
— тянул подполковник, — и это глубоко символично. Нами установлено, что
среди прочих могил тут имеются захоронения героев Отечественной войны.
В том числе и орденоносцев. Таким образом, создаются все условия для шефства
над павшими героями...
Свинью затащили в кузов. Она лежала
неподвижно, только вздрагивали розовые уши. Вскоре ее привезут на бойню,
где стоит жирный туман. Боец отработанным жестом вздернет ее за сухожилие
к потолку. Потом ударит в сердце длинным белым ножом. Надрезав, он быстро
снимет кожу, поросшую грязной шерстью. И тогда военнослужащим станет плохо
от запаха крови...
— Кто здесь Пахапиль?
Густав вздрогнул. Он поднялся и вспомнил, что было
минуту назад. Как ефрейтор Петров вытянул руку и сказал, тайно давясь от
смеха:
— В нашем подразделении уже есть такой солдат.
Он взял шефство над павшим героем и ухаживает за его могилой. Это инструктор
Пахапиль!
— Кто здесь Пахапиль? — недоверчиво отозвался Мар.
— Вы, что ли, Пахапиль?
— Так, — ответил Густав, краснея.
— Именем командира роты объявляю вам благодарность.
Ваша инициатива будет популяризирована. В штабе намечено торжественное
собрание отличников боевой подготовки. Поедете со мной. Расскажете о своих
достижениях. В дороге набросаем план.
— Я вообще-то эстонец, — начал было Пахапиль.
— Это даже хорошо, — оборвал подполковник, — с точки
зрения братского интернационализма...
В штабе было людно. Под графиками, художественно
оформленными стендами, материалами наглядной агитации, толпились военнослужащие.
Сапоги и мокрые волосы блестели. Пахло табаком и дегтем.
Они взошли по лестнице. Мар обнимал Пахапиля. На
площадке их окружили.
— Знакомьтесь, — гражданским тоном сказал подполковник,
— это наши маяки. Сержант Тхапсаев, сержант Гафиатулин, сержант Чичиашвили,
младший сержант Шахмаметьев, ефрейтор Лаури, рядовые Кемоклидзе и Овсепян...
"Перкеле, — задумался Густав, — одни жиды..."
Но тут позвонили. Все потянулись к урнам. Кинули
окурки и зашли в просторный зал...
И вот Пахапиль на трибуне. Внизу белеют
лица, слева — президиум, графин, кумачовая штора. Сбоку — контрабас, из
зала он не виден.
Пахапиль взглянул на людей, тронул металлическую
бляху. Затем шагнул вперед.
— Я вообще-то эстонец, — начал он.
В зале было тихо. Под окнами, звякая, шел трамвай...
Вечером Густав Пахапиль трясся на заднем
сиденье штабного автомобиля. Инструктор припоминал свое выступление. И
то, как наливал он воду из графина. Как дребезжал стакан и улыбался генерал
в президиуме. И то, как ему прикололи значок. (Три непонятных слова, фигура
и глобус.) А затем говорил Мар, отметив ценную инициативу рядового Пахапиля...
Что-то насчет — подхватить, развивать и стараться... И еще относительно
патриотического воспитания... Что-то вроде преемственности и неразрывной
связи... С целью шефства над могилами павших героев... Хотя Пахапиль эстонец
вследствие братской дружбы между народами...
Перед ним возвышалась спина шофера. Мимо летели
деревья с бедными кронами, выгоревшие холмы, убогая таежная зелень.
Когда машину тряхнуло на переезде, Густав сказал
шоферу:
— Здесь я сойду.
Тот, не оборачиваясь, помахал ему и развернулся.
Густав Пахапиль зашагал вдоль тусклых рельсов. Перебрался
через железнодорожную насыпь. Лежневка привела его в кильдим.
Здесь его карманы тяжело наполнились.
Он пересек заброшенный стадион и шагнул на мостки
кладбищенского рва.
Было сыро и тихо. Щебетали листья на ветру.
Густав расстегнул мундир. Сел на холмик. Положил
ветчину на колени. Бутылку поставил в траву.
После чего закурил, облокотившись на красный фанерный
монумент.
17 февраля 1982 года. Нью-Йорк
Если не ошибаюсь, мы познакомились
в шестьдесят четвертом году. То есть вскоре после моей демобилизации из лагерной охраны. А значит, я был уже сложившимся человеком, наделенным всякого рода тяжелыми комплексами.
Не зная меня до армии, вы едва
ли представляете себе, как я изменился.
Я ведь рос полноценным молодым
человеком. У меня был комплект любящих родителей. Правда, они вскоре разошлись. Но развод мало повредил их отношениям со мной. Более того, развод мало повредил их отношениям друг с другом. В том смысле, что отношения и до развода были неважными.
Сиротского комплекса у меня не
возникло. Скорее — наоборот. Ведь отцы моих сверстников погибли на фронте.
Оставшись с матерью, я перестал
выделяться. Живой отец мог произвести впечатление буржуазного излишества. Я же убивал двух зайцев. (Даже не знаю, можно ли считать такое выражение уместным). То есть использовал все преимущества
любящего сына. Избегая при этом репутации благополучного мальчика.
Мой отец был вроде тайного сокровища.
Алименты он платил не совсем регулярно. Это естественно. Ведь только явные
сбережения дают хороший процент.
У меня были нормальные рядовые
способности. Заурядная внешность с чуточку фальшивым неаполитанским оттенком. Заурядные перспективы. Все предвещало обычную советскую биографию.
Я принадлежал к симпатичному национальному
меньшинству. Был наделен прекрасным здоровьем. С детства не имел болезненных пристрастий.
Я не коллекционировал марок. Не оперировал дождевых червей. Не строил авиамоделей. Более того, я даже не очень любил читать. Мне нравилось кино и безделье.
Три года в университете слабо
повлияли на мою личность. Это было продолжение средней школы. Разве что
на более высоком уровне. Плюс барышни, спорт и какой-то жалкий минимум
фрондерства.
Я не знал, что именно тогда достиг
вершины благополучия. Дальше все пошло хуже. Несчастная любовь, долги,
женитьба... И как завершение всего этого — лагерная охрана.
Любовные истории нередко оканчиваются
тюрьмой. Просто я ошибся дверью. Попал не в барак, а в казарму.
То, что я увидел, совершенно меня
потрясло.
Есть такой классический сюжет.
Нищий малыш заглядывает в щелку барской усадьбы. Видит барчука, катающегося
на пони. С тех пор его жизнь подчинена одной цели — разбогатеть. К прежней
жизни ему уже не вернуться. Его существование отравлено причастностью к
тайне.
В такую же щель заглянул и я.
Только увидел не роскошь, а правду.
Я был ошеломлен глубиной и разнообразием
жизни. Я увидел, как низко может пасть человек. И как высоко он способен
парить. Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел
свободу за решеткой. Жестокость, бессмысленную, как поэзия. Насилие, обыденное,
как сырость.
Я увидел человека, полностью низведенного
до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел.
Мир, в который я попал, был ужасен.
В этом мире дрались заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой
и насиловали коз.
В этом мире убивали за пачку чая.
В этом мире я увидел людей с кошмарным
прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим.
Я дружил с человеком, засолившим
когда-то в бочке жену и детей.
Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась.
Более того, здесь сохранялись обычные жизненные пропорции. Соотношение
добра и зла, горя и радости — оставалось неизменным.
В этой жизни было что угодно.
Труд, достоинство, любовь, разврат, патриотизм, богатство, нищета. В ней
были люмпены и мироеды, карьеристы и прожигатели жизни, соглашатели и бунтари,
функционеры и диссиденты.
Но вот содержание этих понятий
решительным образом изменилось. Иерархия ценностей была полностью нарушена.
То, что казалось важным, отошло на задний план. Мелочи заслонили горизонт.
Возникла совершенно новая шкала
предпочтительных жизненных благ. По этой шкале чрезвычайно ценились — еда, тепло, возможность избежать работы. Обыденное становилось драгоценным. Драгоценное — нереальным.
Открытка из дома вызывала потрясение.
Шмель, залетевший в барак, производил сенсацию. Перебранка с надзирателем
воспринималась как интеллектуальный триумф.
На особом режиме я знал человека,
мечтавшего стать хлеборезом. Эта должность сулила громадные преимущества. Получив ее, зек уподоблялся Ротшильду. Хлебные обрезки приравнивались к россыпям алмазов.
Чтобы сделать такую карьеру, необходимы
были фантастические усилия. Нужно было выслуживаться, лгать, карабкаться
по трупам. Нужно было идти на подкуп, шантаж, вымогательство. Всеми правдами
и неправдами добиваться своего.
Такие же усилия на воле открывают
дорогу к синекурам партийного, хозяйственного, бюрократического руководства.
Подобными способами достигаются вершины государственного могущества.
Став хлеборезом, зек психически
надломился. Борьба за власть исчерпала его душевные силы. Это был хмурый, подозрительный, одинокий человек. Он напоминал партийного босса, измученного тяжелыми комплексами...
Я вспоминаю такой эпизод. Заключенные
рыли траншею под Иоссером. Среди них был домушник по фамилии Енин.
Дело шло к обеду. Енин отбросил
лопатой последний ком земли. Мелко раздробил его, затем склонился над горстью
праха.
Его окружили притихшие зеки.
Он поднял с земли микроскопическую
вещь и долго тер ее рукавом. Это был осколок чашки величиной с трехкопеечную монету. Там сохранился фрагмент рисунка — девочка в голубом платьице. Уцелело только плечико и голубой рукав.
На глазах у зека появились слезы.
Он прижал стекло к губам и тихо выговорил:
— Сеанс!..
Лагерное "сеанс" означает всякое
переживание эротического характера. Даже шире — всякого рода положительное чувственное ощущение. Женщина в зоне — сеанс. Порнографическая фотография — сеанс. Но и кусочек рыбы в баланде — это тоже сеанс.
— Сеанс! — повторил Енин.
И окружавшие его зеки дружно подтвердили:
— Сеанс!..
Мир, в который я попал, был ужасен.
И все-таки улыбался я не реже, чем сейчас. Грустил — не чаще.
Будет время, расскажу об этом
подробнее...
Как вам мои первые страницы? Высылаю
следующий отрывок.
Р.S. В нашей русской колонии попадаются
чудные объявления. Напротив моего дома висит объявление:
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЙ!
Чуть левее, на телефонной будке:
ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО И ОБРАТНО.
СПРОСИТЬ АРИКА...
Когда-то Мищук работал в аэросъемочной
бригаде. Он был хорошим пилотом. Как-то раз он даже ухитрился посадить машину в сугроб. Притом что у него завис клапан в цилиндре и фактически горел левый двигатель.
Вот только зря он начал спекулировать
рыбой, которую привозил из Африканды. Мищук выменивал ее у ненцев и отдавал дружку-халдею по шесть рублей за килограмм.
Мищуку долго везло, потому что он не
был жадным. Как-то радист ОДС передал ему на борт:
— Тебя ждут "вилы"... Тебя ждут "вилы"...
— Вас понял, вас понял, — ответил Мищук.
Затем он без сожаления выбросил над
Енисеем девять мешков розовой кумжи.
Но вот когда Мищук украл рулон парашютного
шелка, его забрали. Знакомый радист передал друзьям в Африканду:
— Малыш испекся, наматывается трояк...
Мищука направили в ИТК-5. Он знал, что,
если постараться, можно ополовинить. Мищук стал передовиком труда, активистом, читателем газеты "За досрочное освобождение".
А главное, записался в СВП (секция внутреннего порядка). И ходил теперь между бараками с красной
повязкой на рукаве.
— СВП, — шипели зеки, — сука выпрашивает
половинку!
Мищук и в голову не брал. Дружок-карманник
учил его играть на мандолине. И дали ему в лагере кликуху — Пупс.
— Ну и прозвище у вас, — говорил ему
зек Лейбович, — назвались бы Королем. Или же — Бонапартом.
Тут вмешивался начитанный "кукольник"
Адам:
— По-вашему, бонапарт — это что? По-вашему,
бонапарт — это должность?
— Вроде, — мирно соглашался Лейбович,
— типа князя...
— Легко сказать — бонапарт, — возражал
Мищук, — а если я не похож?..
В ста метрах от лагеря был пустырь.
Там среди ромашек, осколков и дерьма гуляли куры. Бригаду сантехников выводили на пустырь рыть канализационную траншею.
Рано утром солнце появлялось из-за бараков,
как надзиратель Чекин. Оно шло по небу, задевая верхушки деревьев и трубы лесобиржи. Пахло резиной и нагретой травой.
Каждое утро подконвойные долбили сухую
землю. Затем шли курить. Они курили и беседовали, сидя под навесом. Кукольник Адам рассказывал о первой судимости.
Что-то было в его рассказах от этого
пустыря. Может, запах пыльной травы или хруст битых стекол. А может, бормотание
кур, однообразие ромашек — сухое поле незадавшейся жизни...
— И что вы себе мыслите — делает прокурор?
— говорил Адам.
— Прокурор таки делает выводы, — откликался
зек Лейбович.
Конвой дремал у забора. Так было каждый
день.
Но однажды появился вертолет. Он был
похож на стрекозу. Он летел в сторону аэропорта.
— Турбовинтовой МИ-6, — заметил Пупс
вставая. — Е-е! — лениво крикнул он.
Затем скрестил над головой руки. Затем
растопырил их наподобие крыльев. Затем присел. И наконец повторил все это снова и снова.
— О-е-е! — крикнул Пупс.
И тут произошло чудо. Это признавали
все. И карманник Чалый. И потомственный "скокарь" Мурашка. И расхититель государственной собственности Лейбович. И кукольник Адам. И даже фарцовщик Белуга. А этих людей трудно было чем-нибудь удивить...
Вертолет шел на посадку.
— Чудеса, — первым констатировал Адам.
— Чтоб я так жил! — воскликнул Лейбович.
— Зуб даю, — коротко поклялся Чалый.
— Сеанс, — одобрительно заметил Мурашка.
— Феноменально, — произнес Велуга, —
итс вандерфул!
— Не положено, — забеспокоился конвоир,
ефрейтор Дзавашвили.
— Зафлюгировал винт! — надсаживаясь,
кричал Мищук. — Скинул обороты! О-е-е... (Непечатное, непечатное, непечатное...)
Куры разбежались. Ромашки пригнулись
к земле. Вертолет подпрыгнул и замер. Отворилась дверца кабины, и по трапу спустился Маркони. Это был пилот Дима Маркони — самонадеянный крепыш, философ, умница, темных кровей человек. Мищук бросился к нему.
— До чего ты худой, — сказал Маркони.
Затем они час хлопали друг друга по
животу.
— Как там Вадя? — спрашивал Мищук. —
Как там Жора?
— Вадя киряет. Жора переучивается на
"ту". Ему командировки опротивели.
— Ну, а ты, старый пес?
— Женился, — трагически произнес Маркони,
опустив голову.
— Я ее знаю?
— Нет. Я сам ее почти не знаю. Ты не
много потерял...
— А помнишь вальдшнепную тягу на Ладоге?
— Конечно, помню. А помнишь ту гулянку
на Созьве, когда я утопил бортовое ружье?
— А мы напьемся, когда я вернусь? Через
год, пять месяцев и шестнадцать дней?
— Ох и напьемся... Это будет посильнее,
чем "Фауст" Гете...
— Явлюсь к самому Покрышеву, упаду ему
в ноги...
— Я сам зайду к Покрышеву. Ты будешь
летать. Но сначала поработаешь механиком.
— Естественно, — согласился Мищук.
Помолчав, он добавил:
— Зря я тогда пристегнул этот шелк.
— Есть разные мнения, — последовал корректный
ответ.
— Мне-то что, — сказал ефрейтор Дзавашвили,
— режим не предусматривает...
— Ясно, — сказал Маркони, — узнаю восточное
гостеприимство... Денег оставить?
— Деньги иметь не положено, — сказал
Мищук.
— Ясно, — сказал Маркони, — значит,
вы уже построили коммунизм. Тогда возьми шарф, часы и зажигалку.
— Мерси, — ответил бывший пилот.
— Ботинки оставить? У меня есть запасные
в кабине.
— Запрещено, — сказал Мищук, — у нас
единая форма.
— У нас тоже, — сказал Маркони, — ясно...
Ну, мне
Он повернулся к Дзавашвили:
— Возьмите три рубля, ефрейтор. Каждому
по способностям...
— Запрещено, — сказал конвоир, — мы
на довольствии.
— Прощайте, — сунул ему руку Маркони.
И взошел по трапу.
Мищук улыбался.
— Мы еще полетим, — крикнул он, — мы
еще завинтим штопор! Мы еще плюнем кому-то на шляпу с высоты!
— В элементе, — подтвердил Мурашка.
— Зуб даю, — однообразно высказался
Чалый.
— Оковы тяжкие падут! — закричал фарцовщик
Белуга.
— Жизнь продолжается, даже когда ее,
в сущности, нет, — философски заметил Адам.
— Вы можете хохотать, — застенчиво произнес
Лейбович, — но я скажу. Мне кажется, еще не все потеряно...
Вертолет поднялся над землей. Тень от
него становилась все прозрачнее. И мы глядели ему вслед, пока он не скрылся за бараками.
Мищука освободили через три года, по
звонку. Покрышев к этому времени умер. О его смерти писали газеты. В аэропорт Мищука не допустили. Помешала судимость.
Он работал механиком в НИИ, женился,
забыл блатной язык. Играл на мандолине, пил, старел и редко думал о будущем...
А Дима Маркони разбился под Углегорском.
Среди обломков его машины нашли пудовую канистру белужьей икры...
23 февраля 1982 года. Нью-Йорк
Спасибо за письмо от 18-го. Я
рад, что вам. как будто по душе мои заметки. Я тут подготовил еще несколько
страниц. Напишите, какое они произведут впечатление.
Отвечаю на вопросы.
"Кукольник" по-лагерному — аферист.
"Кукла" — афера.
"Скокарь" означает — грабитель.
"Скок" — грабеж. Ну, кажется, все. Я в тот раз остановился на ужасах лагерной
жизни. Не важно, что происходит кругом. Важно, как мы себя при этом чувствуем.
Поскольку любой из нас есть то, чем себя ощущает.
Я чувствовал себя лучше, нежели
можно было предполагать. У меня началось раздвоение личности. Жизнь превратилась
в сюжет.
Я хорошо помню, как это случилось.
Мое сознание вышло из привычной оболочки. Я начал думать о себе в третьем
лице.
Когда меня избивали около Ропчинской
лесобиржи, сознание действовало почти невозмутимо:
"Человека избивают сапогами. Он
прикрывает ребра и живот. Он пассивен и старается не возбуждать ярость
масс... Какие, однако, гнусные физиономии! У этого татарина видны свинцовые
пломбы..."
Кругом происходили жуткие вещи.
Люди превращались в зверей. Мы теряли человеческий облик — голодные, униженные,
измученные страхом.
Мой плотский состав изнемогал.
Сознание же обходилось без потрясений.
Видимо, это была защитная реакция.
Иначе я бы помер от страха.
Когда на моих глазах под Ропчей
задушили лагерного вора, сознание безотказно фиксировало детали.
Конечно, в этом есть значительная
доля аморализма. Таково любое действие, в основе которого лежит защитная
реакция.
Когда я замерзал, сознание регистрировало
этот факт. Причем в художественной форме:
"Птицы замерзали на лету..."
Как я ни мучился, как ни проклинал
эту жизнь, сознание функционировало безотказно.
Если мне предстояло жестокое испытание,
сознание тихо радовалось. В его распоряжении оказывался новый материал.
Плоть и дух существовали раздельно.
И чем сильнее была угнетена моя плоть, тем нахальнее резвился дух.
Даже когда я физически страдал,
мне было хорошо. Голод, боль, тоска — все становилось материалом неутомимого
сознания.
Фактически я уже писал. Моя литература
стала дополнением к жизни. Дополнением, без которого жизнь оказывалась
совершенно непотребной.
Оставалось перенести все это на
бумагу. Я пытался найти слова...
Шестой лагпункт находился в стороне от
железной дороги. Так что попасть в это унылое место было нелегко.
Нужно было долго ждать попутного лесовоза.
Затем трястись на ухабах, сидя в железной кабине. Затем два часа шагать
по узкой, исчезающей в кустах тропинке. Короче, действовать так, будто
вас ожидает на горизонте приятный сюрприз. Чтобы наконец оказаться перед
лагерными воротами, увидеть серый трап, забор, фанерные будки и мрачную
рожу дневального...
Алиханов был в этой колонии надзирателем
штрафного изолятора, где содержались провинившиеся зеки.
Это были своеобразные люди.
Чтобы попасть в штрафной изолятор лагеря
особого режима, нужно совершить какое-то фантастическое злодеяние. Как
ни странно, это удавалось многим. Тут действовало нечто противоположное
естественному отбору. Происходил конфликт ужасного с еще более чудовищным.
В штрафной изолятор попадали те, кого даже на особом режиме считали хулиганами...
Должность Алиханова были поистине сучьей.
Тем не менее Борис добросовестно выполнял свои обязанности. То, что он
выжил, является показателем качественным.
Нельзя сказать, что он был мужественным
или хладнокровным. Зато у него была драгоценная способность терять рассудок
в минуту опасности. Видимо, это его и спасало.
В результате его считали хладнокровным
и мужественным. Но при этом считали чужим.
Он был чужим для всех. Для зеков, солдат,
офицеров и вольных лагерных работяг. Даже караульные псы считали его чужим.
На лице его постоянно блуждала рассеянная
и одновременно тревожная улыбка. Интеллигента можно узнать по ней даже
в тайге.
Это выражение сохранялось при любых
обстоятельствах. Когда от мороза трещали заборы и падали на лету воробьи.
Когда водка накануне очередной демобилизации переполняла солдатскую борщевую
лохань. И даже когда заключенные около лесобиржи сломали ему ребро.
Алиханов родился в интеллигентном семействе,
где недолюбливали плохо одетых людей. А теперь он имел дело с уголовниками
в полосатых бушлатах. С военнослужащими, от которых пахло ядовитой мазью,
напоминающей деготь. Или с вольными лагерными работягами, еще за Котласом
прокутившими гражданское тряпье.
Алиханов был хорошим надзирателем. И
это все же лучше, чем быть плохим надзирателем. Хуже плохого надзирателя
только зеки в ШИЗО...
В ста метрах от изолятора темнело здание
казармы. Над его чердачным окном висел бледно-розовый застиранный флаг.
За казармой на питомнике глухо лаяли овчарки. Овчарок дрессировали Воликов
и Пахапиль. Месяцами они учили собак ненавидеть людей в полосатых бушлатах.
Однако голодные псы рычали и на солдат в зеленых телогрейках. И на сверхсрочников
в офицерских шинелях. И на самих офицеров. И даже на Воликова с Пахапилем.
Ходить мимо отгороженных проволочными
сетками вольеров — было небезопасно.
Ночью Алиханов дежурил в изоляторе,
а потом целые сутки отдыхал. Он мог курить, сидя на гимнастических брусьях.
Играть в домино под хриплые звуки репродуктора. Или, наконец, осваивать
ротную библиотеку, в которой преобладали сочинения украинских авторов.
В казарме его уважали, хоть и считали
чужим. А может, как раз поэтому и уважали. Может быть, сказывалось российское
почтение к иностранцам? Почтение без особой любви...
Чтобы заслужить казарменный авторитет,
достаточно было игнорировать начальство. Алиханов легко игнорировал ротное
командование, потому что служил надзирателем. Ему было нечего терять...
Раз Алиханова вызвал капитан Прищепа.
Это было в конце декабря.
Капитан протянул ему сигареты в знак
того, что разговор будет неофициальный. Он сказал:
— Приближается Новый год. К сожалению,
это неизбежно. Значит, в казарме будет пьянка. А пьянка — это неминуемое
чепе... Если бы ты постарался, употребил, как говорится, свое влияние...
Поговори с Балодисом, Беликовым... Ну и, конечно, с Петровым. Главный тезис
— пей, но знай меру. Вообще не пить — это слишком. Это, как говорится,
антимарксистская утопия. Но свою меру знай... Зона рядом, личное оружие,
сам понимаешь...
В тот же день Борис заметил около уборной
ефрейтора Петрова, которого сослуживцы называли — Фидель. Эту кличку ефрейтор
получил год назад. Лейтенант Хуриев вел политзанятия. Он велел назвать
фамилии членов Политбюро. Петров сразу вытянул руку и уверенно назвал Фиделя
Кастро...
Алиханов заговорил с ним, ловко копируя
украинский выговор Прищепы:
— Скоро Новый год. Устранить или даже
отсрочить это буржуазное явление партия не в силах. А значит, состоится
пьянка. И произойдет неминуемое чепе. В общем, пей, Фидель, но знай меру...
— Я меру знаю, — сказал Фидель, подтягивая
брюки, — кило на рыло, и все дела! Гужу, пока не отключусь... А твой Прищепа
— гондовня и фрайер. Он думает — праздник, так мы и киряем. А у нас, бляха-муха,
свой календарь. Есть "капуста" — гудим. А без "капусты" что за праздник?!.
И вообще, тормознуться пора. Со Дня Конституции не просыхаем. Так ведь
можно ненароком и дубаря секануть... Давай скорее, я тебя жду... Ну и погодка!
Дерьмо замерзает, рукой приходится отламывать...
Алиханов направился к покосившейся будке.
Снег около нее был покрыт золотистыми вензелями. Среди них выделялся каллиграфический
росчерк Потапа Якимовича из Белоруссии.
Через минуту они шли рядом по ледяной
тропинке.
— Наступит дембель, — мечтал Фидель,
— приеду я в родное Запорожье. Зайду в нормальный человеческий сортир.
Постелю у ног газету с кроссвордом. Открою полбанки. И закайфую, как эмирский
бухар...
Подошел Новый год. Утром солдаты пилили
дрова возле казармы. Еще вчера снег блестел под ногами. Теперь его покрывали
желтые опилки.
Около трех вернулась караульная смена
из наряда. Разводящий Мелешко был пьян. Шапка его сидела задом наперед.
— Кругом! — закричал ему старшина Евченко,
тоже хмельной. — Кругом! Сержант Мелешко — кру-у-гом! Головной убор — на
месте!..
Ружейный парк был закрыт. Дежурный запер
его и уснул. Караульные бродили по двору с оружием.
На кухне уже пили водку. Ее черпали
алюминиевыми кружками прямо из борщовой лохани. Ленька Матыцын затянул
старый вохровский гимн:
Хотят ли цирики войны?..
Ответ готов у старшины,
Который пропил все, что мог,
От портупеи до сапог.
Ответ готов у тех солдат,
Что в доску пьяные лежат,
И сами вы понять должны,
Хотят ли цирики войны...
Замполит Хуриев был дежурным офицером.
На всякий случай он захватил из дома пистолет. Правый карман его галифе
был заметно оттянут.
Хмельные солдаты в расстегнутых гимнастерках
без дела шатались по коридору. Глухая и темная энергия накапливалась в
казарме.
Замполит Хуриев приказал собраться в
ленинской комнате. Велел построиться у стены. Однако пьяные вохровцы не
могли стоять. Тогда он разрешил сесть на пол. Некоторые сразу легли.
— До Нового года еще шесть часов, —
отметил замполит, — а вы уже пьяные, как свиньи.
— Жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет
мечту, — сказал Фидель.
У замполита было гордое красивое лицо
и широкие плечи. В казарме его не любили...
— Товарищи, — сказал Хуриев, — нам выпала
огромная честь. В эти дни мы охраняем покой советских граждан. Вот ты,
например, Лопатин...
— А чего Лопатин? Чего Лопатин-то? Всегда
— Лопатин, Лопатин... Ну, я Лопатин, — басом произнес Андрей Лопатин.
— Для чего ты, Лопатин, стоишь на посту?
Чтобы мирно спали колхозники в твоей родной деревне Бежаны...
"Политработа должна быть конкретной".
Так объясняли Хуриеву на курсах в Сыктывкаре.
— Ты понял, Лопатин?
Лопатин подумал и громко сказал:
— Поджечь бы эту родную деревню вместе
с колхозом!..
Алиханов водку пить не стал. Он пошел
в солдатский кубрик, где теснились двухъярусные нары. Потом стащил валенки
и забрался наверх.
На соседней койке, укрывшись, лежал
Фидель. Вдруг он сел на постели и заговорил:
— Знаешь, что я сейчас делал? Богу молился...
Молитву сам придумал. Изложить?
— Ну, — произнес Алиханов.
Фидель поднял глаза и начал:
— Милый Бог! Надеюсь, ты видишь этот
бардак?! Надеюсь, ты понял, что значит вохра?!.. Так сделай, чтобы меня
перевели в авиацию. Или, на худой конец, в стройбат. И еще распорядись,
чтобы я не спился окончательно. А то у бесконвойников самогона навалом,
и все идет против морального кодекса...
Милый Бог! За что ты меня ненавидишь?
Хотя я и гопник, но перед законом чист. Ведь не крал же я, только пью...
И то не каждый день...
Милый Бог! Совесть есть у тебя или нет?
Если ты не фрайер, сделай, чтобы капитан Прищепа вскорости лыжи отбросил.
А главное, чтобы не было этой тоски... Как ты думаешь, Бог есть?
— Маловероятно, — сказал Алиханов.
— А я думаю, что пока все о'кей, то,
может быть, и нет его. А как прижмет, то, может быть, и есть. Так лучше
с ним заранее контакт установить...
Фидель наклонился к Алиханову и тихо
произнес:
— Мне в рай попасть охота. Я еще со
Дня Конституции такую цель поставил.
— Попадешь, — заверил его Алиханов,
— в охране у тебя не много конкурентов.
—Я и то думаю, — согласился Фидель,
— публика у нас бесподобная. Ворюги да хулиганы... Какой уж там рай..
Таких и в дисбат не примут... А я на
этом фоне, может, и проскочу как беспартийный...
...К десяти часам перепилась вся рота.
Очередную смену набрали из числа тех, кто мог ходить. Старшина Евченко
уверял, что мороз отрезвит их.
По казарме бродили чекисты, волоча за
собой автоматы и гитары.
Двоих уже связали телефонным проводом.
Их уложили в сушилке на груду тулупов.
В ленинской комнате охранники затеяли
игру. Она называлась "Тигр идет ". Все уселись за стол. Выпили по стакану
зверобоя. Затем ефрейтор Кунин произнес:
— Тигр идет!
Участники игры залезли под стол.
— Отставить! — скомандовал Кунин.
Участники вылезли из-под стола. Снова
выпили зверобоя. После чего ефрейтор Кунин сказал:
— Тигр идет!
И все опять залезли под стол.
— Отставить! — скомандовал Кунин...
На этот раз кто-то остался под столом.
Затем — второй и третий. Затем надломился сам Кунин. Он уже не мог произнести:
"Тигр идет!" Он дремал, положив голову на кумачовую скатерть...
Около двенадцати прибежал инструктор
Воликов с криком:
— Охрана, в ружье!
Его окружили.
— На питомнике девка кирная лежит, —
объяснил инструктор, — может, с высылки забрела...
В нескольких километрах от шестого лагпункта
был расположен поселок Чир. В нем жили сосланные тунеядцы, главным образом
— проститутки и фарцовщики. На высылке они продолжали бездельничать. Многие
из них были уверены, что являются политическими заключенными...
Парни толпились возле инструктора.
— У Дзавашвили есть гандон, — сказал
Матыцын, — я видел.
— Один? — спросил Фидель.
— Тоже мне, доцент! — рассердился Воликов.
— Личный гандон ему подавай! Будешь на очереди...
— Банальный гандон не поможет, — уверял
Матыцын, — знаю я этих, с высылки... У них там гонококки, как псы... Вот
если бы из нержавейки...
Алиханов лежал и думал, какие гнусные
лица у его сослуживцев.
"Боже, куда я попал?!" — думал он.
— Урки, за мной! — крикнул Воликов.
— Люди вы или животные?! — произнес
Алиханов. Он спрыгнул вниз. — Попретесь целым взводом к этой грязной бабе?!
— Политику не хаваем! — остановил его
Фидель.
Он успел переодеться в диагоналевую
гимнастерку.
— Ты же в рай собирался?
— Мне и в аду не худо, — сказал Фидель.
Алиханов стоял в дверном проеме.
— Всякую падаль охраняем!.. Сами хуже
зеков!.. Что, не так?!..
— Не возникай, — сказал Фидель, — чего
ты разорался?!.. И помни, в народе меня зовут — отважным...
— Кончайте базарить, — сказал верзила
Герасимчук.
И вышел, задев Алиханова плечом. За
ним потянулись остальные.
Алиханов выругался, залез под одеяло
и раскрыл книгу Мирошниченко "Тучи над Брянском"...
Латыш Балодис разувался, сидя на питьевом
котле. Балодис монотонно дергал себя за ногу. И при этом всякий раз бился
головой об угол железной кровати.
Балодис служил поваром. Главной его
заботой была продовольственная кладовая. Там хранились сало, джем и мука.
Ключи Балодис целый день носил в руках. Засыпая, привязывал их шпагатом
к своему детородному органу. Это не помогало. Ночная смена дважды отвязывала
ключи и воровала продукты. Даже мука была съедена...
—А я не пошел, — гордо сказал Балодис.
— Почему? — Алиханов захлопнул книгу.
— У меня под Ригой дорогая есть. Не
веришь? Анеле зовут. Любит меня — страшно.
— А ты?
—И я ее уважаю.
— За что же ты ее уважаешь? — спросил
Алиханов.
— То есть как?
— Что тебя в ней привлекает? Я говорю,
отчего ты полюбил именно ее, эту Анеле?
Балодис подумал и сказал:
— Не могу же я любить всех баб под Ригой...
Читать Алиханов не мог. Заснуть ему
не удавалось. Борис думал о тех солдатах, которые ушли на питомник. Он
рисовал себе гнусные подробности этой вакханалии и не мог уснуть.
Пробило двенадцать, в казарме уже спали.
Так начался год.
Алиханов поднялся и выключил репродуктор...
Солдаты возвращались поодиночке. Алиханов
был уверен, что они начнут делиться впечатлениями. Но они молча легли.
Глаза Алиханова привыкли к темноте.
Окружающий мир был знаком и противен. Свисающие темные одеяла. Ряды обернутых
портянками сапог. Лозунги и плакаты на стенах.
Неожиданно Алиханов понял, что думает
о женщине с высылки. Вернее, старается не думать об этой женщине.
Не задавая себе вопросов, Борис оделся.
Он натянул брюки и гимнастерку. Захватил в сушилке полушубок. Затем, прикурив
у дневального, вышел на крыльцо.
Ночь тяжело опустилась до самой земли.
В холодном мраке едва угадывалась дорога и очертание сужающегося к горизонту
леса.
Алиханов миновал заснеженный плац. Дальше
начинался питомник. За оградой хрипло лаяли собаки на блок постах.
Борис пересек заброшенную железнодорожную
ветку и направился к магазину.
Магазин был закрыт. Но рядом жила продавщица
Тонечка с мужем-электромонтером. Еще была дочь, приезжавшая только на каникулы.
Алиханов шел на свет в полузанесенном
окне.
Затем постучал, и дверь отворилась.
Из узкой, неразличимой от пьянства комнаты вырвались звуки старомодного
танго. Алиханов, щурясь от света, вошел. Сбоку косо возвышалась елка, украшенная
мандаринами и продуктовыми этикетками.
— Пей! — сказал электромонтер.
Он подвинул надзирателю фужер и тарелку
с дрогнувшим холодцом.
— Пей, душегуб! Закусывай, сучья твоя
порода!
Электромонтер положил голову на клеенку,
видимо совершенно обессилев.
— Премного благодарен, — сказал Алиханов.
Через пять минут Тонечка сунула ему
бутылку вина, обернутую клубной афишей.
Он вышел. Грохнула дверь за спиной.
Мгновенно исчезла с забора нелепая, длинная тень Алиханова. И вновь темнота
упала под ноги.
Надзиратель положил бутылку в карман.
Афишу он скомкал и выбросил. Было слышно, как она разворачивается, шурша.
Когда Борис снова шел мимо вольеров,
псы опять зарычали.
На питомнике было тесно. В одной комнате
жили инструкторы. Там висели диаграммы, графики, учебные планы, мерцала
шкала радиоприемника с изображением кремлевской башни. Рядом были приклеены
фотографии кинозвезд из журнала "Советский экран". Кинозвезды улыбались,
чуть разомкнув губы.
Борис остановился на пороге второй комнаты.
Там на груде дрессировочных костюмов лежала женщина. Ее фиолетовое платье
было глухо застегнуто. При этом оно задралось до бедер. А чулки были спущены
до колен. Волосы ее, недавно обесцвеченные пергидролем, темнели у корней.
Алиханов подошел ближе, нагнулся.
— Девушка, — сказал он.
Бутылка "Пино-гри" торчала у него из
кармана.
— Ой, да ну иди ты! — Женщина беспокойно
заворочалась в полусне.
— Сейчас, сейчас, все будет нормально,
ханов, — все будет о'кей...
Борис прикрыл настольную лампу обрывком
служебной инструкции. Припомнил, что обоих инструкторов нет. Один ночует
в казарме. Второй ушел на лыжах к переезду, где работает знакомая телефонистка...
Дрожащими руками он сорвал красную пробку.
Начал пить из горлышка. Затем резко обернулся — вино пролилось на гимнастерку.
Женщина лежала с открытыми глазами. Ее лицо выражало чрезвычайную сосредоточенность.
Несколько секунд молчали оба.
— Это что? — спросила женщина.
В голосе ее звучало кокетство, подавляемое
нетрезвой дремотой.
— "Пино-гри", — сказал Алиханов.
— Чего? — удивилась женщина.
— "Пино-гри", розовое крепкое, — добросовестно
ответил надзиратель, исследуя винную этикетку.
— Один говорил тут — пожрать захвачу...
— У меня нет, — растерялся Алиханов,
— но я добуду... Как вас зовут?
— По-разному... Мамаша Лялей называла.
Женщина одернула платье.
— Чулок у меня все отстЯгивается. Я
его застЯгиваю, а он все отстЯгивается да отстЯгивается... Ты чего?
Алиханов шагнул, наклонился, содрогаясь
от запаха мокрых тряпок, водки и лосьона.
— Все нормально, — сказал он.
Огромная янтарная брошка царапала ему
лицо.
— Ах ты, сволочь! — последнее, что услышал
надзиратель...
Он сидел в канцелярии, не зажигая лампы.
Потом выпрямился, уронив руки. Звякнули пуговицы на манжетах.
— Господи, куда я попал, — выговорил
Алиханов, — куда я попал?! И чем все это кончится?!..
Невнятные ускользающие воспоминания
коснулись Алиханова
...Зимний сквер, высокие квадратные
дома. Несколько школьников окружили ябеду Вову Машбица. У Вовы испуганное
лицо, нелепая шапка, рейтузы...
Кока Дементьев вырывает у него из рук
серый мешочек. Вытряхивает на снег галоши. Потом, изнемогая от смеха, мочится...
Школьники хватают Вову, держат его за плечи... Суют его голову в потемневший
мешок... Мальчик уже не вырывается. В сущности, это не больно...
Школьники хохочут. Среди других — Боря
Алиханов, звеньевой и отличник...
...Галоши еще лежат на снегу, такие
черные и блестящие. Но уже видны разноцветные палатки спортивного лагеря
за Коктебелем. На веревках сушатся голубые джинсы. В сумерках танцуют несколько
пар. На песке стоит маленький черный и блестящий транзистор.
Борис прижимает к себе Галю Водяницкую.
На девушке мокрый купальник. Кожа у нее горячая, чуть шершавая от загара.
Галин муж, аспирант, сидит на краю волейбольной площадки. Там, где место
для судей. В его руке белеет свернутая газета.
Галя — студентка индонезийского отделения.
Она шепотом произносит непонятные Алиханову индонезийские слова. Он, тоже
шепотом, повторяет за ней:
— Кером даш ахнан... Кером ланав...
Галя прижимается к нему еще теснее.
— Ты можешь не задавать вопросов? —
говорит Алиханов. — Дай руку!
Они почти бегут с горы, исчезают в кустах.
Наверху — бесформенный силуэт аспиранта Водяницкого. Потом — его растерянный
окрик:
— Э, э?!..
Воспоминания Алиханова стали еще менее
отчетливыми. Наконец замелькали какие-то пятна. Обозначились яркие светящиеся
точки. Похищенные у отца серебряные монеты... Растоптанные очки после драки
на углу Литейного и Кирочной... И брошка, ослепительная желтая брошка в
грубом, анодированном корпусе.
Затем Алиханов снова увидел квадрат
волейбольной площадки, белеющий на фоне травы. Но теперь он был собой,
и женщиной в мокром купальнике, и любым посторонним. И даже хмурым аспирантом
с газетой в руке...
Что-то неясное происходило с Алихановым.
Он перестал узнавать действительность. Все близкое, существенное, казавшееся
делом его рук, представлялось теперь отдаленным, невнятным и малозначительным.
Мир сузился до размеров телеэкрана в чужом жилище.
Алиханов перестал негодовать и радоваться.
Он был убежден, что перемена в мире, а не в его душе.
Ощущение тревоги прошло. Алиханов бездумно
выдвинул ящик письменного стола. Обнаружил там хлебные корки, моток изоляционной
ленты, пачку ванильных сухарей.
Затем — мятые погоны с дырочками от
эмблем. Две разбитые елочные игрушки. Гибкую коленкоровую тетрадь с наполовину
вырванными листами. Наконец — карандаш.
И тут Алиханов неожиданно почувствовал
запах морского ветра и рыбы. Услышал довоенное танго и шершавые звуки индонезийских
междометий. Разглядел во мраке геометрические очертания палаток. Вспомнил
ощущение горячей кожи, стянутой мокрыми, тугими лямками...
Алиханов закурил сигарету, подержал
ее в отведенной руке. Затем крупным почерком вывел на листе из тетради:
"Летом так просто казаться влюбленным.
Зеленые теплые сумерки бродят под ветками. Они превращают каждое слово
в таинственный и смутный знак... "
За окном начиналась метель. Белые хлопья
косо падали на стекло из темноты.
— Летом так просто казаться влюбленным,
— шептал надзиратель.
Полусонный ефрейтор брел коридором,
с шуршанием задевая обои.
"Летом так просто казаться влюбленным..."
Алиханов испытывал тихую радость. Он
любовно перечеркнул два слова и написал:
"Летом... непросто казаться влюбленным..."
Жизнь стала податливой. Ее можно было
изменить движением карандаша с холодными твердыми гранями и рельефной надписью
— "Орион"...
— Летом непросто казаться влюбленным,
— снова и снова повторял Алиханов...
В десять часов утра его разбудил сменщик.
Он пришел с мороза, краснолицый и злой.
— Всю ночь по зоне бегал, как шестерка,
— сказал он, — это — чистый театр... Кир, поножовщина, изолятор набит бакланьем...
Алиханов тоже достал сигарету и пригладил
волосы. Целый день он проведет в изоляторе. За стеной будет ходить из угла
в угол рецидивист Анаги, позвякивая наручниками...
— Обстановка напряженная, — говорил
сменщик, раздеваясь. — Мой тебе совет — возьми Гаруна. Он на третьем блокпосту.
Спокойнее, когда пес рядом...
— Это еще зачем? — спросил Алиханов.
— То есть как? Может, ты Анаги не боишься?
— Боюсь, — сказал Алиханов, — очень
даже боюсь... Но все равно Гарун страшнее...
Накинув телогрейку, Алиханов пошел в
столовую,
Повар Балодис выдал ему тарелку голубоватой
овсяной каши. На краю желтело пятнышко растаявшего масла.
Надзиратель огляделся.
Выцветшие обои, линолеум, мокрые столы...
Он захватил алюминиевую ложку с перекрученным
стеблем. Сел лицом к окну. Вяло начал есть. Тут же вспомнил минувшую ночь.
Подумал о том, что ждет его впереди... И спокойная торжествующая улыбка
преобразила его лицо.
Мир стал живым и безопасным, как на
холсте. Он приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны.
И казалось, чего-то ждал от него...
11 марта 1982 года. Нью-Йорк
Простите, что задержал очередную главу.
Отсутствие времени стало кошмаром моей жизни. Пишу я только рано утром,
с шести и до восьми. Дальше — газета, радиостанция "Либерти"... Одна переписка
чего стоит. Да еще — младенец... И так далее.
Развлечение у меня единственное
— сигареты. Я научился курить под душем...
Однако вернемся к рукописи. Я
говорил о том, как началась моя злосчастная литература.
В этой связи мне бы хотелось коснуться
природы. литературного творчества. (Я представляю себе вашу ироническую
улыбку. Помните, вы. говорили: "Сережу мысли не интересуют..." Вообще,
слухи о моем интеллектуальном бессилии носят подозрительно упорный характер.
Тем не менее — буквально два слова.)
Как известно, мир несовершенен.
Устоями общества являются корыстолюбие, страх и продажность. Конфликт мечты
с действительностью не утихает тысячелетиями. Вместо желаемой гармонии
на земле царят хаос и беспорядок.
Более того, нечто подобное мы
обнаружили в собственной душе. Мы жаждем совершенства, а вокруг торжествует
пошлость.
Как в этой ситуации поступает
деятель, революционер? Революционер делает попытки установить мировую гармонию.
Он начинает преобразовывать жизнь, достигая иногда курьезных мичуринских
результатов. Допустим, выводит морковь, совершенно неотличимую от картофеля.
В общем, создает новую человеческую породу. Известно, чем это кончается...
Что в этой ситуации предпринимает
моралист? Он тоже пытается достичь гармонии. Только не в жизни, а в собственной
душе. Путем самоусовершенствования. Тут очень важно не перепутать гармонию
с равнодушием...
Художник идет другим путем. Он
создает искусственную жизнь, дополняя ею пошлую реальность. Он творит искусственный
мир, в котором благородство, честность, сострадание являются нормой.
Результаты этой деятельности заведомо
трагичны. Чем плодотворнее усилия художника, тем ощутимее разрыв мечты
с действительностью. Известно, что женщины, злоупотребляющие косметикой,
раньше стареют...
Я понимаю, что все мои рассуждения
достаточно тривиальны. Недаром Вайль и Генис прозвали меня "Трубадуром
отточенной банальности". Я не обижаюсь. Ведь прописные истины, сейчас необычайно
дефицитны.
Моя сознательная жизнь была дорогой
к вершинам банальности. Ценой огромных жертв я понял то, что мне внушали
с детства. Но теперь эти прописные истины стали частью моего личного опыта.
Тысячу раз я слышал: "Главное
в браке — общность духовных интересов".
Тысячу раз отвечал: "Путь к добродетели
лежит через уродство".
Понадобилось двадцать лет, чтобы
усвоить внушаемую мне банальность. Чтобы сделать шаг от парадокса к трюизму.
В лагере я многое понял. Постиг
несколько драгоценных в своей банальности истин.
Я понял, что величие духа не обязательно
сопутствует телесной мощи. Скорее — наоборот. Духовная сила часто бывает
заключена в хрупкую, неуклюжую оболочку. А телесная доблесть нередко сопровождается
внутренним бессилием.
Древние говорили:
"В здоровом теле — соответствующий
дух!"
По-моему, это не так. Мне кажется,
именно здоровые физически люди чаще бывают подвержены духовной слепоте.
Именно в здоровом теле чаще царит нравственная апатия.
В охране я знал человека, который
не испугался живого медведя. Зато любой начальственный окрик выводил его
из равновесия.
Я сам был очень здоровым человеком.
Мне ли не знать, что такое душевная слабость...
Вторая усвоенная мною истина еще
банальнее.
Я убедился, что глупо делить людей
на плохих и хороших. А также — на коммунистов и беспартийных. На злодеев
и праведников. И даже — на мужчин и женщин.
Человек неузнаваемо меняется под
воздействием обстоятельств. И в лагере — особенно.
Крупные хозяйственные деятели
без следа растворяются в лагерной шушере. Лекторы общества
"Знание" пополняют ряды стукачей.
Инструкторы физкультуры становятся завзятыми наркома нами. Расхитители
государственного имущества пишут стихи. Боксеры-тяжеловесы превращаются
в лагерных "дунек" и разгуливают с накрашенными губами.
В критических обстоятельствах
люди меняются. Меняются к лучшему и к худшему. От лучшего к худшему и наоборот.
Со времен Аристотеля человеческий
мозг не изменился. Тем более не изменилось человеческое сознание.
А значит, нет прогресса. Есть
— движение, в основе которого лежит неустойчивость.
Все это напоминает идею переселения
душ.
Только время я бы заменил пространством.
Пространством меняющихся обстоятельств...
Как это поется:
"Был Якир героем, стал врагом
народа..."
И еще — лагерь представляет собой
довольно точную модель государства. Причем именно Советского государства.
В лагере имеется диктатура пролетариата (то есть — режим), народ (заключенные),
милиция (охрана). Там есть партийный аппарат, культура, индустрия. Есть
все, чему положено быть в государстве.
Советская власть давно уже не
является формой правления, которую можно изменить. Советская власть есть
образ жизни нашего государства.
То же происходит и в лагере. В
этом плане лагерная охрана — типично советское учреждение...
Как видите, получается целый трактат.
Может быть, зря я все это пишу? Может, если этого нет в рассказах, то все
остальное — бесполезно?..
Посылаю вам очередные страницы.
Будет минута, сообщите, что вы о них думаете.
У нас все по-прежнему. Мать в
супермаркете переходит от беспомощности на грузинский язык.
Дочка презирает меня за то, что
я не умею водить автомашину.
Только что звонил Моргулис, просил
напомнить ему инициалы Лермонтова.
Лена вам кланяется...
Наша рота дислоцировалась между двумя
большими кладбищами. Одно было русским, другое — еврейским. Происхождение
еврейского кладбища было загадкой. Поскольку живых евреев в Коми нет.
В полдень с еврейского кладбища доносились
звуки траурных маршей. Иногда к воротам шли бедно одетые люди с детьми.
Но чаще всего там было пустынно и сыро.
Кладбище служило поводом для шуток и
рождало мрачные ассоциации.
Выпивать солдаты предпочитали на русских
могилах...
Я начал с кладбища, потому что рассказываю
историю любви.
Медсестра Раиса была единственной девушкой
в нашей казарме. Она многим нравилась, как нравилась бы любая другая в
подобной ситуации. Из ста человек в нашей казарме девяносто шесть томилось
похотью. Остальные лежали в госпитале на Койне.
При всем желании Раю трудно было назвать
хорошенькой. У нее были толстые щиколотки, потемневшие мелкие зубы и влажная
кожа.
Но она была добрая и приветливая. Она
была все же лучше хмурых девиц с торфоразработок. Эти девицы брели по утрам
вдоль ограды, игнорируя наши солдатские шутки. Причем глаза их, казалось,
были обращены внутрь...
Летом в казарму явился новый инструктор
— Пахапиль. Он разыскал своего земляка Ханнисте, напоил его шартрезом и
говорит:
— Ну, а барышни тут есть?
— И даже много, — заверил его Ханнисте,
подрезая ногти штыком от автомата.
— Как это? — спросил инструктор.
— Солоха, Рая и восемь "дунек"...
— Сууре пярасельт! — воскликнул Густав.
— Тут можно жить!
Солохой звали лошадь, на которой мы
возили продукты. "Дуньками" называют лагерных педерастов. Рая была медсестрой...
В санчасти было прохладно даже летом.
На окнах покачивались белые марлевые занавески. Еще там стоял запах лекарств,
неприятный для больных.
Инструктор был абсолютно здоров, но
его часто видели те, кто ходил под окнами санчасти. Солдаты заглядывали
в окна, надеясь, что Рая будет переодеваться. Они видели затылок Пахапиля
и ругались матом.
Пахапиль трогал холодные щипчики и говорил
об Эстонии. Вернее, о Таллинне, об игрушечном городе, о Мюнди-баре. Он рассказывал,
что таллиннские голуби нехотя уступают дорогу автомобилям.
Иногда Пахапиль добавлял:
"Настоящий эстонец должен жить в Канаде..."
Как-то раз его лицо вдруг стало хмурым
и даже осунулось. Он сказал: "Замолчать!" — и повалил Раю на койку.
В санчасти пахло больницей, и это многое
упрощало. Пахапиль лежал на койке, обитой холодным дерматином. Он замерз
и подтянул брюки.
Инструктор думал о своей подруге Хильде.
Он видел, как Хильда идет мимо Ратуши...
Рядом лежала медсестра, плоская, как
слово на заборе. Пахапиль сказал:
— Ты разбила мне сердце...
Ночью он снова пришел. Когда он постучал,
за дверью стало чересчур тихо. Тогда Густав сорвал крючок.
На койке сидел безобразно расстегнутый
ефрейтор Петров. Раю инструктор заметил не сразу.
— Вольно! — сказал Фидель, придерживая
брюки. — Вольно, говорю...
— Курат! — воскликнул Густав. — Падаль!
— Мамочки! — сказала Рая и добавила.
— Выражаться не обязательно.
— Ах ты, нерусский, — сказал Фидель.
— Сука! — произнес инструктор, заметив
Раю.
— А что, если мне вас обоих жалко? —
сказала Рая. — Что тогда?
— Чтобы все дохли! — сказал инструктор.
В коридоре громко запел дневальный:
...Сорок метров крепдешина,— Ваша жена может приезжать, — сказала Рая, — она такая интересная дама. Я видела фотку...
Пудра, тушь, одеколон...
19 марта 1982 года. Нью-Йорк
Наш телефонный разговор был коротким
и поспешным. И я не договорил. Так что вернемся к перу и бумаге.
Недавно я прочитал книгу — "Азеф".
В ней рассказывается о головокружительной двойной игре Азефа. О его деятельности
революционера и провокатора.
Как революционер он подготовил
несколько успешных террористических актов. Как агент полиции выдал на расправу
многих своих друзей.
Все это Азеф проделывал десятилетиями.
Ситуация кажется неправдоподобной.
Как мог он избежать разоблачения? Одурачить Гершуни и Савинкова? Обвести
вокруг пальца Рачковского и Лопухина? Так долго пользоваться маской?
Я знаю, почему это стало возможным.
Разгадка в том, что маски не было. Оба его лица были подлинными. Азеф был
революционером и провокатором — одновременно.
Полицейские и революционеры, действовали
одинаковыми методами. Во имя единой цели — народного блага.
Они были похожи, хоть и ненавидели
друг друга.
Поэтому-то Азеф и не выделялся
среди революционеров. Как, впрочем, и среди полицейских. Полицейские и
революционеры говорили на одном языке.
И вот я перехожу к основному.
К тому, что выражает сущность лагерной жизни. К тому, что составляет главное
ощущение бывшего лагерного надзирателя. К чертам подозрительного сходства
между охранниками и заключенными. А если говорить шире — между "лагерем"
и "волей".
Мне кажется, это главное.
Жаль, что литература бесцельна.
Иначе я бы сказал, что моя книга написана ради этого...
"Каторжная" литература существует
несколько веков. Даже в молодой российской словесности эта тема представлена
грандиозными образцами. Начиная с "Мертвого дома" и кончая "ГУЛАГом". Плюс
— Чехов, Шаламов, Синявский
Наряду с "каторжной" имеется "полицейская"
литература. Которая также богата значительными фигурами. От Честертона
до Агаты Кристи.
Это — разные литературы. Вернее
— противоположные. С противоположными нравственными ориентирами.
Таким образом, есть два нравственных
прейскуранта. Две шкалы идейных представлений.
По одной — каторжник является
фигурой страдающей, трагической, заслуживающей жалости и восхищения. Охранник
— соответственно — монстр, злодей, воплощение жестокости и насилия.
По второй — каторжник является
чудовищем, исчадием ада. А полицейский, следовательно, — героем, моралистом,
яркой творческой личностью.
Став надзирателем, я был готов
увидеть в заключенном — жертву. А в себе — карателя и душегуба.
То есть я склонялся к первой,
более гуманной шкале. Более характерной для воспитавшей меня русской литературы.
И, разумеется, более убедительной. (Все же Сименон — не Достоевский.)
Через неделю с этими фантазиями
было покончено. Первая шкала оказалась совершенно фальшивой. Вторая — тем
более.
Я, вслед за Гербертом Маркузе
(которого, естественно, не читал), обнаружил третий путь.
Я обнаружил поразительное сходство
между лагерем и волей. Между заключенными и надзирателями. Между домушниками-рецидивистами
и контролерами производственной зоны. Между зеками-нарядчиками и чинами
лагерной администрации.
По обе стороны запретки расстилался
единый и бездушный мир.
Мы говорили на одном, приблатненном
языке. Распевали одинаковые сентиментальные песни. Претерпевали одни и
те же лишения.
Мы даже выглядели одинаково. Нас
стригли под машинку. Наши обветренные физиономии были расцвечены багровыми
пятнами. Наши сапоги распространяли запах конюшни. А лагерные робы издали
казались неотличимыми от заношенных солдатских бушлатов.
Мы были очень похожи и даже —
взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль охранника. Почти
любой надзиратель заслуживал тюрьмы.
Повторяю — это главное в лагерной
жизни. Остальное — менее существенно.
Все мои истории написаны об этом...
Кстати, недавно пришла бандероль
из Дортмута. Два куска фотопленки и четыре страницы текста на папиросной
бумаге.
Кое-что, я слышал, попало в Голубую
Лагуну...
Жаль, если пропадет что-нибудь
стоящее. Ладно...
Буду лететь из Миннеаполиса —
сойду в Детройте. Встретите на машине — хорошо. Нет, доберусь сам.
Крышу ремонтировать не обязательно...
Прежде чем выйти к лесоповалу, нужно
миновать знаменитое осокинское болото. Затем пересечь железнодорожную насыпь.
Затем спуститься под гору, обогнув мрачноватые корпуса электростанции.
И лишь тогда оказаться в поселке Чебью.
Половина его населения — сезонники из
бывших зеков. Люди, у которых дружба и ссора неразличимы по виду.
Годами они тянули срок. Затем надевали
гражданское тряпье, двадцать лет пролежавшее в каптерках. Уходили за ворота,
оставляя позади холодный стук штыря. И тогда становилось ясно, что желанная
воля есть знакомый песенный рефрен, не больше.
Мечтали о свободе, пели и клялись...
А вышли — и тайга до горизонта...
Видимо, их разрушало бесконечное однообразие
лагерных дней. Они не хотели менять привычки и восстанавливать утраченные
связи. Они селились между лагерями в поле зрения часовых. Храня, если можно
так выразиться, идейный баланс нашего государства, раскинувшегося по обе
стороны лагерных заборов.
Они женились бог знает на ком. Калечили
детей, внушая им тюремные премудрости:
"Только мелкая рыба попадается в сети..."
В результате поселок жил лагерным кодексом.
Население его щеголяло блатными повадками. И даже третье поколение любой
семьи кололось морфином. А заодно тянуло "дурь" и ненавидело конвойные
войска.
И не стоило появляться здесь выпившему
чекисту. Над головой его, увенчанной красным околышем, быстро собирались
тучи. За спиной его хлопали двери. И хорошо, если парень был не один...
Год назад три пильщика вывели из шалмана
бледного чекиста. На плечах его топорщились байковые крылышки. Он просил,
упирался и даже командовал. Но его ударили так, что фуражка закатилась
под крыльцо. А потом сделали "качели ". Положили ему доску на грудь и шагнули
коваными сапогами.
Наутро кладовщики обнаружили труп. Сначала
думали — пьяный. Но вдруг заметили узкую кровь, стекавшую изо рта под голову.
Затем приезжал сюда военный дознаватель.
Говорил о вреде алкоголя перед картиной "Неуловимые мстители". А на вопросы:
"Как же ефрейтор Дымза?! Испекся, что ли"! И все, с концами?!" — отвечал:
— Следствие, товарищи, на единственно
верном пути!..
Пильщики же так и соскочили. Хотя на
Чебью их знала каждая собака...
Чтобы выйти к лесоповалу, нужно миновать
железнодорожное полотно. Еще раньше — шаткие мостки над белой от солнца
водой. А до этого — поселок Чебью, наполненный одурью и страхом.
Вот его портрет, точнее — фотоснимок.
Алебастровые лиры над заколоченной дверью местного клуба. Лавчонка, набитая
пряниками и хомутами. .Художественно оформленные диаграммы, сулящие нам
мясо, яйца, шерсть, а также прочие интимные блага. Афиша Леонида Кострицы.
Мертвец или пьяные у обочины.
И над всем этим — лай собак, заглушающий
рев пилорамы...
Впереди шел инструктор Пахапиль с Гаруном.
В руке он держал брезентовый поводок. Закуривая и ломая спички, он что-то
говорил по-эстонски.
Всех собак на питомнике Густав учил
эстонскому языку. Вожатые были этим недовольны. Они жаловались старшине
Евченко:
"Ты ей приказываешь — к ноге! А сучара
тебе в ответ — нихт ферштейн! "
Инструктор вообще говорил мало. Если
говорил, то по-эстонски. И в основном не с земляками, а с Гаруном. Пес всегда
сопровождал его.
Пахапиль был замкнутым человеком. Осенью
на его имя пришла телеграмма. Она была подписана командиром части и секретарем
горисполкома Нарвы:
"Срочно вылетайте регистрации гражданкой
Хильдой Кокс находящейся девятом месяце беременности".
Вот так эстонец, думал я. Приехал из
своей Курляндии. Полгода молчал, как тургеневский Герасим. Научил всех
собак лаять по-басурмански. А теперь улетает, чтобы зарегистрироваться
с гражданкой, откликающейся на потрясающее имя — Хильда Кокс.
В тот же день Густав уехал на попутном
лесовозе. Месяц скулил на питомнике верный Гарун. Наконец Пахапиль вернулся.
Он угостил дневального таллиннской "Примой".
Сшибая одуванчики новеньким чемоданом, подошел к гимнастическим брусьям.
Сунул руку каждому из нас.
— Женился? — спросил его Фидель.
— Та, — ответил Густав, краснея.
— Папочкой стал?
— Та.
— Как назвали? — спросил я.
Мне в самом деле было интересно, как
назвали ребенка. Ведь матушка его отзывалась на имя Хильда Кокс.
Вот так эстонец, думал я. Год прожил
на краю земли. Перепортил всех конвойных собак. Затем садится на попутный
лесовоз и уезжает. Уезжает, чтобы под крики "горько" целовать невообразимую
Хильду Браун. Вернее — Кокс.
— Как назвали младенца? — спрашиваю.
Густав взглянул на меня и потушил сигарету
о каблук:
— Терт ефо снает...
И ушел на питомник болтать с четвероногим
адъютантом.
Теперь они снова появлялись вместе.
Пес казался более разговорчивым.
Однажды я увидел Пахапиля за книгой.
Он читал в натопленной сушилке. За столом, пожелтевшим от ружейного масла.
Под железными крючьями для тулупов. Гарун спал у его ног.
Я подошел на цыпочках. Заглянул через
плечо. Это была русская книга. Я прочитал заглавие:
"Фокусы на клубной сцене"...
Впереди идет Пахапиль с Гаруном. В руке
у него брезентовый поводок. То и дело он щелкает себя по голенищу.
На ремне его болтается пустая кобура.
ТТ лежит в кармане.
С леса дорогу блокирует ефрейтор Петров.
Маленький и неуклюжий, Фидель, спотыкаясь, бредет по обочине. Он часто
снимает без нужды предохранитель. Вид у Фиделя такой, словно его насильно
привязали к автомату.
Зеки его презирают. И в случае чего
— не пощадят.
Год назад возле Синдора Фидель за какую-то
провинность остановил этап. Сняв предохранитель, загнал колонну в ледяную
речку. Зеки стояли молча, понимая, как опасен шестидесятизарядный АКМ в
руках неврастеника и труса.
Фидель минут сорок держал их под автоматом,
распаляясь все больше и больше. Затем кто-то из дальних рядов неуверенно
пустил его матерком. Колонна дрогнула. Передние запели.
Над рекой пронеслось:
А дело было в старину,Фидель стал пятиться. Он был маленький, неуклюжий, в твердом полушубке. Крикнул с побелевшими от ужаса глазами:
Эх, под Ростовом-на-Дону,
Со шмарой, со шмарой...
Какой я был тогда чудак,
Надел ворованный пиджак,
И шкары, и шкары...
Впереди шагает Пахапиль с Гаруном. Щелкая
брезентовым ремешком, он что-то говорит ему по-эстонски. На родном языке
инструктор обращается только к собакам.
Слева колонну охраняет распятый на берданке
ефрейтор Петров. За этот фланг можно быть спокойным. Людям известно, что
значит модернизированный АК в руках такого воина, как Фидель.
Мы переходим холодную узкую речку. Следим,
чтобы заключенные не спрятались под мостками. Выводим бригаду к переезду.
Ощущая запах вокзальной гари, пересекаем железнодорожную насыпь. И направляемся
к лесоповалу.
Так называется участок леса, окруженный
символической непрочной изгородью. На уровне древесных крон торчат фанерные
сторожевые вышки.
Охрану несет караульная группа. Возглавляет
ее сержант Шумейко, который целыми днями томится, ожидая ЧП.
Мы заводим бригаду в сектор охраны.
После этого наши обязанности меняются.
Пахапиль становится радистом. Он достает
из сейфа Р109. Выводит гибкую, как бамбуковое удилище, антенну. Затем роняет
в просторный эфир таинственные нежные слова:
— Алло, Роза! Алло, Роза! Я — Пион!
Я — Пион! Вас не слышу. Вас не слышу!..
Фидель с гнусным шумом двигает ржавые
штыри в проходном коридоре. Он считает карточки. Берет ключи от пирамиды.
Осматривает сигнальные "Янтари " и "Хлопушки". Трогает, хорошо ли растоплена
печь. Превращается в контролера хозяйственной зоны.
Зеки разводят костры. Шоферы лесовозов
выстраиваются за соляркой. Перекликаются на вышках часовые. Сержант Шумейко,
чью личность мы впервые оценили после драки на Койне, тихо засыпает. Хотя
наш единственный топчан предназначен для бойца, свободного от караула.
Двенадцать сторожевых постов утвердились
над лесом. Начинается рабочий день.
Вокруг — дым костров, гул моторов, запах
свежих опилок, перекличка часовых. Эта жизнь медленно растворяется в бледном
сентябрьском небе.
Гулко падают сосны. Тягачи волокут их,
подминая кустарник. Солнце ослепительными бликами ложится на фары машин.
А над лесоповалом в просторном эфире беззвучно мечутся слова:
— Алло, Роза! Алло, Роза! Я — Пион!
Я — Пион! Часовые на вышках! Сигнализация в порядке! Запретная полоса распахана!
Воры приступили к работе! Прием! Вас не слышу! Вас не слышу!..
Контролер пропустил меня в зону. Сзади
неприятно звякнул штырь. У костра расконвоированный повар Галимулин заряжал
чифирбак. Я прошел мимо, хотя употребление чифира было строго запрещено.
Режимная инструкция приравнивала чифиристов к наркоманам. Однако все бакланье
чифирило, и мы это знали. Чифир заменял им женщин.
Галимулин подмигнул мне. Я убедился,
что мой либерализм зашел слишком далеко. Мне оставалось только пригрозить
ему кондеем. На что Галимулин вновь одарил меня своей басурманской улыбкой.
Передние зубы у него отсутствовали.
Я прошел мимо балана, любуясь желтым
срезом. Уступил дорогу тягачу, с шумом ломавшему ветки. Защищая физиономию
от паутины, вышел через лес к инструментальной мастерской.
Зеки раскатывали бревна, обрубали сучья.
Широкоплечий татуированный стропаль ловко орудовал багром.
— Поживей, уркаганы, — крикнул он, заслонив
ладонью глаза, — отстающих в коммунизм не берем! Так и будут доходить при
нынешнем строе...
Сучкорубы опустили топоры, кинули бушлаты
на груду веток. И опять железо блеснуло на солнце.
Я шел и думал:
"Энтузиазм? Порыв? Да ничего подобного.
Обычная гимнастика. Кураж... Сила, которая легко перешла бы в насилие.
Дай только волю..."
Переговариваясь с часовыми, я обогнул
лесоповал вдоль запретки. Прыгая с кочки на кочку, миновал ржавое болото.
И вышел на поляну, тронутую бледным утренним солнцем.
У низкого костра спиной ко мне расположился
человек. Рядом лежала толстая книга без переплета. В левой руке он держал
бутерброд с томатной пастой.
— А, Купцов, — сказал я, — опять волынишь?!
В крытку захотел?
В отголосках трудового шума, у костра
— зек был похож на морского разбойника. Казалось, перед ним штурвал и судно
движется навстречу ветру...
...Зима. Штрафной изолятор. Длинные тени
под соснами. Окна, забитые снегом.
За стеной, позвякивая наручниками, бродит
Купцов. В книге нарядов записано: "Отказ".
Я достаю из сейфа матрикул Бориса Купцова.
Тридцать слов, похожих на взрывы: БОМЖ (без определенного места жительства).
БОЗ (без определенных занятий). Гриф ОР (опасный рецидивист). Тридцать
два года в лагерях. Старейший "законник" усть-вымского лагпункта. Четыре
судимости. Девять побегов. Принципиально не работает...
Я спрашиваю:
— Почему не работаешь?
Купцов звякает наручниками:
— Сними браслет, начальник! Это золото
без пробы.
— Почему не работаешь, волк?
— Закон не позволяет.
— А жрать твой закон позволяет?
— Нет такого закона, чтобы я голодал.
— Ваш закон отжил свое. Все законники
давно раскололись. Антипов стучит. Мамай у кума — первый человек. Седой
завис на морфине. Топчилу в Ропче повязали...
— Топчила был мужик и фрайер, зеленый,
как гусиное дерьмо. Разве он вор? Двинуть бабкин "угол" — вот его фортуна.
Так и откороновался...
— Ну, а ты?
— А я — потомственный российский вор.
Я воровал и буду...
Передо мной у низкого костра сидит человек.
Рядом на траве белеет книга. В левой руке он держит бутерброд...
— Привет, — сказал Купцов, — вот рассуди,
начальник. Тут написано — убил человек старуху из-за денег. Мучился так,
что сам на каторгу пошел. А я, представь себе, знал одного клиента в Туркестане.
У этого клиента — штук тридцать мокрых дел и ни одной судимости. Лет до
семидесяти прожил. Дети. внуки, музыку преподавал на старости лет... Более
того, история показывает, что можно еще сильнее раскрутиться. Например,
десять миллионов угробить, или там сколько, а потом закурить "Герцеговину
флор"...
— Слушай, — говорю я, — ты будешь работать,
клянусь. Рано или поздно ты будешь шофером, стропалем, возчиком. На худой
конец — сучкорубом. Ты будешь работать либо околеешь в ШИЗО. Ты будешь
работать, даю слово. Иначе ты сдохнешь...
Зек оглядел меня как вещь. Как заграничный
автомобиль напротив Эрмитажа. Проследил от радиатора до выхлопной трубы.
Затем он внятно произнес:
— Я люблю себя тешить...
И сразу — капитанский мостик над волнами.
Изорванные в клочья паруса. Ветер, соленые брызги... Мираж...
Я спрашиваю:
— Будешь работать?
— Нет. Я родился, чтобы воровать.
— Иди в ШИЗО!
Купцов встает. Он почти вежлив со мной.
На лице его застыла гримаса веселого удивления.
Где-то падают сосны, задевая небо. Грохочет
лесовоз.
Неделю Купцов доходит в изоляторе. Без
сигарет, без воздуха, на полухлебе.
— Ты даешь, начальник. — говорит он,
когда я прохожу мимо амбразуры.
Наконец контролер отпускает его в зону.
В тот же день у него появляются консервы,
масло, белый хлеб. Загадочная организация, тюремный горсобес, снабжает
его всем необходимым...
Февраль. Узкие тени лежат между сосен.
На питомнике лают собаки.
Покинув казарму, мы с Хедояном оказываемся
в зоне.
— Давай, — говорит Рудольф, — иди вдоль
простреливаемого коридора, а я тебе навстречу.
Он идет через свалку к изолятору. По
уставу мы должны идти вместе. Надзиратели ходят только вдвоем. Недаром
капитан Прищепа говорит: "Двое — это больше, чем Ты и Я. Двое — это МЫ..."
Мы расстаемся под баскетбольными щитами.
Зимней полночью они напоминают виселицы. Как только я исчезну за баками
свалки, Рудольф Хедоян вернется. Он закурит и направится к вахте, где тикают
ходики. Я тоже мог бы вернуться. Мы бы все поняли и рассмеялись. Но для
этого я слишком осторожен. Если это случится, я буду отсиживаться на вахте
каждый раз.
Я надвигаю воркутинский капюшон и распахиваю
дверь соседнего барака. Нестерпимо грохочет привязанный к скобе эмалированный
чайник. Значит, в бараке не спят. Нары пусты. Стол завален деньгами и картами.
Кругом — человек двадцать в нижнем белье. Взглянув на меня, продолжают
игру.
— Не торопись, ахуна, — говорит карманник
Чалый, — всех пощекочу!
— Жадность фрайера губит, — замечает
валютчик Белуга.
— С довеском, — показывает карты Адам.
— Задвигаю и вывожу, — тихо роняет Купцов...
Я мог бы уйти. Водворить на место чайник
и захлопнуть дверь. Клубы пара вырвались бы из натопленного жилья. Я бы
шел через зону, ориентируясь на прожекторы возле КПП, где тикают ходики.
Я мог остановиться, выкурить сигарету под баскетбольной корзиной. Три минуты
постоять, наблюдая, как алеет в снегу окурок. А потом на вахте я бы слушал,
как Фидель говорит о любви. Я бы даже крикнул под общий смех:
— Эй, Фидель, ты лучше расскажи, как
по ошибке на старшину Евченко забрался...
Для всего этого я недостаточно смел.
Если это случится, мне уже не зайти в барак...
Я говорю с порога:
— Когда заходит начальник, положено
вставать.
Зеки прикрывают карты.
— Без понта, — говорит Купцов, — сейчас
нельзя...
— Это вилы, начальник, — произносит
Адам.
Остальные молчат. Я протягиваю руку.
Сгребаю податливые мятые бумажки. Сую в карманы и за пазуху. Чалый хватает
меня за локоть.
— Руки! — приказывает ему Купцов.
И потом, обращаясь ко мне:
— Начальник, остынь!
Хлопает дверь за спиной, гремит эмалированный
чайник.
Я иду к воротам. Бережно, как щенка,
несу за пазухой
деньги. Ощущаю на своих плечах тяжесть
всех рук, касавшихся этих мятых бумажек. Горечь всех слез. Злую волю...
Я не заметил, как подбежали сзади. Вокруг
стало тесно.
Чужие тени кинулись под ноги. Мигнула
лампочка в проволочной сетке. И я упал, не расслышав собственного крика...
В госпитале я лежал недели полторы. Над
моей головой висел репродуктор. В гладкой фанерной коробке жили мирные
новости. На тумбочке стояли шахматные фигуры вперемешку с пузырьками для
лекарств. За окнами расстилался морозный день. Пейзаж в оконной раме...
Сухое чистое белье... Мягкие шлепанцы,
застиранный теплый халат... Веселая музыка из репродуктора... Клиническая
прямота и откровенность быта. Все это заслоняло изолятор, желтые огни над
лесобиржей, примерзших к автоматам часовых. И тем не менее я вспоминал
Купцова очень часто. Я не удивился бы, пожалуй, зайди он ко мне в своей
лагерной робе. Да еще и с книгой в руках.
Я не знал, кто ударил меня возле пожарного
стенда. И все же чувствовал: неподалеку от белого лезвия мелькнула улыбка
Купцова. Упала, как тень, на его лицо...
В шлепанцах и халате я пересек заснеженный
двор. Оказавшись в темном флигеле, натянул сапоги. Затем приехал в штаб
на лесовозе. Явился к подполковнику Гречневу. На его столе размахивал копьем
чугунный витязь. Тон был начальственно-фамильярный:
— Говорят, на тебя покушение было?
— Просто сунули шабер в задницу.
— Ну и что хорошего? — спросил подполковник.
— Да так, — говорю, — ничего.
— Как это произошло?
— Играли в буру. Я отнял деньги.
— Когда тебя обнаружили, денег не было.
— Естественно.
— Зачем же ты приключений ищешь?
— Затем, что подобные вещи кончаются
резней.
— Товарищ подполковник...
— Резней, товарищ подполковник.
— Это в наших интересах.
— Я думаю, надо по закону.
— Ладно, считай, что я этого не говорил.
Ты питерский?
— С Охты.
— В штабе рассказывают такой анекдот.
Приехал майор Бережной на Ропчу. Дневальный его не пускает. Бережной кричит:
"Я из штаба части!" Дневальный в ответ: "А я — с Лиговки!.." Ты приемами
самбо владеешь?
— Более или менее.
— Говорят — от топора и лома нет приема...
Можно перевести тебя в другую команду.
— Я не боюсь.
— Это глупо. Отошлем тебя в Синдор...
— А в Синдоре — не зеки? Такое же сучье
и беспредельщина.
— Права думаешь качать?
— Не собираюсь.
— Товарищ подполковник.
— Не собираюсь, товарищ подполковник.
— Вот и замечательно, — сказал он, —
а то прижмуриться недолго. Габариты у тебя солидные, не промахнешься...
Штабной грузовик отвез меня к переезду.
Я шел по укатанной гладкой дороге. Затем
— по испачканной конским навозом лежневке. Сокращая дорогу, пересек замерзший
ручей. И дальше — мимо воробьиного гвалта. Вдоль голубоватых сугробов и
колючей проволоки.
Сопровождаемый лаем караульных псов,
я вышел к зоне. Увидел застиранный розовый флаг над чердачным окошком казармы.
Покосившийся фанерный гриб и дневального с кинжалом на ремне. Незнакомого
солдата у колодца. Чистые дрова, сложенные штабелем под навесом. И вдруг
ощутил, как стосковался по этой мужской тяжелой жизни. По этой жизни с
куревом и бранью. С гармошками, тулупами, автоматами, фотографиями, заржавленными
бритвенными лезвиями и дешевым одеколоном...
Я зашел к старшине. Отдал ему продовольственный
аттестат. Затем направился в сушилку.
Там, вокруг помоста, заваленного ржавыми
дисками от штанги, сидели бойцы и чистили картофель.
Вопросов мне не задавали. Только писарь
Богословский усмехнулся и говорит:
— А мы тебя навечно в списки части занесли...
Как я затем узнал, из штаба части присылали
военного дознавателя. Он прочитал лекцию:
"Вырождение буржуазного искусства".
Потом ему задали вопрос:
"Как там наш амбал?"
Лектор ответил:
— Следствие на единственно верном пути,
товарищи...
Купцова я увидел в зоне. Это случилось
перед разводом конвойных бригад. Он подошел и, не улыбаясь, спросил:
— Как здоровье, начальник?
— Ничего, — говорю, — а ты по-прежнему
в отказе?
— Пока закон кормит.
— Значит, не работаешь?
— Воздерживаюсь.
— И не будешь?
Мимо нас под грохот сигнального рельса
шли заключенные. Они шли группами и поодиночке — к воротам. Бугры ловили
по зоне отказчиков. Купцов же стоял на виду...
— Не будешь работать?
— Нихт, — сказал он, — зеленый прокурор
идет — весна! Под каждым деревом — хаза.
— Думаешь бежать?
— Ага, трусцой. Говорят, полезно.
— Учти, в лесу я исполню тебя без предупреждения.
— Заметано, — ответил Купцов и подмигнул.
Я схватил его за борт телогрейки.
— Послушай, ты — один! Воровского закона
не существует. Ты один...
— Точно, — усмехнулся Купцов, — солист.
Выступаю без хора.
— Ну и сдохнешь. Ты один против всех.
А значит, не прав...
Купцов произнес медленно, внятно и строго:
— Один всегда прав...
И вдруг я понял, что рад этому зеку,
который хотел меня убить. Что я постоянно думал о нем. Что жить не могу
без Купцова.
Это было так неожиданно, глупо, противно...
Я решил все обдумать, чтобы не кривить душой.
Я отпустил его и зашагал прочь. Я начинал
о чем-то догадываться. Вернее — ощущать, что этот последний законник усть-вымского
лагпункта — мой двойник. Что рецидивист Купцов (он же — Шаликов, Рожин,
Алямов) мне дорог и необходим. Что он — дороже солдатского товарищества,
поглотившего жалкие крохи моего идеализма. Что мы — одно. Потому что так
ненавидеть можно одного себя.
И еще я почувствовал, как он устал...
Я помню ту зиму, февраль, вертикальный
дым над бараками. Когда лагерь засыпает, становится очень тихо. Лишь иногда
волкодав на блокпосту приподнимает голову, звякнув цепью.
Мы втроем на КПП.
Фидель греет руки около печной заслонки.
Козырек его фуражки сломан. Он напоминает птичий клюв. Рядом сидит женщина
в темных от растаявшего снега бурках.
— Фамилия наша Купцовы, — говорит она,
развязывая платок.
— Свидание не положено.
— Так я же издалека.
— Не положено, — твердит Фидель.
— Мальчики...
Фидель молчит, затем наклоняется к женщине
и что-то шепчет. Он что-то говорит ей, наглея и стыдясь.
Вводят Купцова. Он идет по-блатному,
как в миру. Сутулится и прячет кулаки в рукава. И снова у меня ощущение
бури над его головой. Снова я вижу капитанский мостик...
Зек останавливается в проходном коридоре.
Заглядывает на вахту, узнает и смотрит, смотрит... Не устает смотреть.
Только пальцы его белеют на стальной решетке.
— Боря, — шепчет женщина, — совсем зеленый.
— Как огурчик, — усмехается тот.
— Свидание не положено, — говорит Фидель.
— Они предложили, — женщина с тоской
глядит на мужа, — они предложили... Мне срамно повторить...
— Найду, — тихо, одному себе говорит
Купцов, — найду я вас, ребята... А уж получать буду — не скощу...
— Баклань, — угрожающе произносит Фидель,
— в изоляторе клеток навалом.
И потом, обращаясь к дежурному надзирателю:
— Увести!
Женщина вскрикивает, плачет. Купцов
стоит, прижавшись к решетке щекой.
— Соглашайся, Тамара, — неожиданно и
внятно говорит он, — соглашайся. Соглашайся, чего предложили начальники...
Надзиратель берет его за локоть.
— Соглашайся, Томка, — говорит он.
Надзиратель тащит его, почти срывая
робу. Видны худые мощные ключицы и синий орел на груди.
— Соглашайся, — все еще просит и умоляет
Купцов...
Я распахиваю дверь. Выхожу на дорогу.
Меня ослепляет фарами громыхающий лесовоз. В наступившей сразу же кромешной
тьме дорога едва различима. Я оступаюсь, падаю в снег. Вижу небо, белое
от звезд. Вижу дрожащие огни над лесобиржей...
Все расплывается, ускользает. Я вспоминаю
море, дюны, обесцвеченный песок. И девушку, которая всегда была права.
И то, как мы сидели рядом на днище перевернутой лодки. И то, как я поймал
окунька, бросил его в море. А потом уверял девушку, что рыбка крикнула:
"Мерси!"...
Потом я уже не чувствовал холода и догадался,
что замерзаю. Тогда я встал и пошел. Хотя знал, что буду еще не раз оступаться
и падать...
Через несколько минут я ощутил запах
сырых березовых дров. Увидел белый дым над вахтой.
Стекла КПП роняли дрожащие желтые блики
на отполированную тягачами лежневку...
Когда я зашел, Фидель, морщась от пламени,
выгребал угли. Инструктор, вернувшись с обхода, пил чай. Женщины не было...
— Такая бикса эта Нюрка, — говорил Фидель,
— придешь — водяра, холодец. Сплошное мамбо итальяно. Кирнешь, закусишь,
и понеслась душа в рай. А главное — душевно, типа: "Ваня, не желаешь ли
рассолу?"
— Нельзя ли договориться, — хмуро спросил
инструктор, — чтобы она мне выстирала портянки?
И опять наступила весна. Последний черный
снег унес особенное зимнее тепло. По размытым лежневкам медленно тянулись
дни...
Этот месяц Купцов просидел в изоляторе.
Он дошел. Под распахнутой телогрейкой выделялись ключицы. Зек вел себя
тихо, лишь однажды бросился на Фиделя. Мы их с трудом растащили.
Я не удивился. Волк ненавидит собак
и людей. Но все-таки больше — собак.
Трижды я отпускал его в зону. Трижды
у нарядчика появлялась короткая запись:
"Отказ"...
Начальник конвоя в зеленом плаще осветил
фонариком список.
— Лесоповал — на выход! — скомандовал
он.
Мы приняли бригаду у ворот жилой зоны.
Пахапиль, сдерживая Гаруна, ушел вперед. Я, выдержав дистанцию, оказался
сзади.
Поселок Чебью встретил нас лаем собак,
запахом мокрых бревен, хмурым равнодушием обитателей.
Вдоль захламленных двориков мы направились
к больнице. Повернули к реке, свободной ото льда, неожиданно чистой и блестящей.
Прошли грубо сколоченными мостками.
Пересекли железнодорожную линию с. бесцветной
травой между шпал. Миновали огромные цистерны, водокачку и помпезное здание
железнодорожного сортира. И уж затем вышли на грязную от дождей лежневку.
— В детстве я любил по грязи шлепать,
— сказал мне Фидель, — а ты? Сколько я галош в дерьме оставил — это страшно
подумать!..
Около лесоповала мы встретили караульную
группу.
Часовые были в полушубках. В руках они
несли телефонные аппараты и подсумки с магазинами.
Пахапиль остановил зеков, тронул козырек
и начал докладывать.
— Отставить! — прервал его начальник
караула Шумейко.
Громадный и рябой, он выглядит сонным,
даже когда бегает за пивом. Яркую индивидуальность сержанта Шумейко можно
оценить лишь в ходе чрезвычайных происшествий. Все, за исключением ЧП,
ему давно наскучило...
Шумейко пересчитал заключенных. Тасуя
их личные карточки, направил в предзонник одну шеренгу за другой. И наконец
махнул часовым.
Мы зашли на КПП. Фидель кинул оружие
в пирамиду и лег на топчан. Я осмотрел сигнализацию и начал растапливать
печь.
Пахапиль достал из сейфа рацию. Вытащил
гибкую, как удилище, металлическую антенну. И потом огласил небесные сферы
таинственными заклинаниями:
— Алло, Роза! Алло, Роза! Я — Пион!
Я — Пион! Сигнализация в порядке. Запретка распахана. Урки работают. Вас
не слышу, вас не слышу, вас не слышу...
Я зашел в производственный сектор, направился к инструменталке. Возле бочки с горючим темнела унылая длинная очередь. Кто-то закурил, но сразу бросил папиросу. Карманник Чалый, увидев меня, нарочито громко запел:
На бану, на бану,Со мной заговаривали, я отвечал. Затем, нагибаясь, вышел через лес к поляне. Там возле огня сидел на корточках человек.
Эх, да на баночке,
Чемоданчик гробану,
И спасибо ночке...
4 апреля 1982 года. Миннеаполис
Буду краток, поскольку через три
дня вас увижу.
Миннеаполис — огромный тихий город.
Людей почти не видно. Автомобилей тоже мало.
Самое интересное здесь — река
Миссисипи. Та самая. Ширина ее в этих краях — метров двести.
Короче, на виду у толпы американских
славистов я эту реку переплыл.
Переплыл Миссисипи. Так и напишу
в Ленинград. По-моему, ради одного этого стоило ехать...
Знаете, в марте я давал интервью
Рою Стиллману. И он спросил:
— Чем тебя больше всего поразила
Америка?
Я ответил:
— Тем, что она существует. Тем,
что это — реальность.
Америка для нас была подобна Карфагену
или Трое. И вдруг оказалось, что Бродвей — это реальность. Тиффани — реальность.
Небоскреб Утюг — реальность. И Миссисипи — реальность...
Как-то иду я по Нижнему Манхэттену.
Останавливаюсь возле бара. Называется бар — "У Джонни". Захожу. Беру свой
айриш-кофе и располагаюсь у окна.
Чувствую, под столом кто-то есть.
Наклоняюсь — пьяный босяк. Совершенно пьяный негр в красной рубашке. (Кстати,
я такую же рубаху видел на Евтушенко.)
И вдруг я чуть не заплакал от
счастья. Неужели это я?! Пью айриш-кофе в баре "У Джонни".
А под столом валяется чернокожий
босяк...
Конечно, счастья нет. Покоя тоже
нет. К тому же я слабовольный. И так далее.
Конечно, все это мишура, серпантин.
И бар, и пьяный негр, и айриш-кофе. Но что-то, значит, есть и в серпантине.
Сколько раз за последнее десятилетие менялся фасон женских шляп? А серпантин
тысячу лет остается серпантином...
Допустим, счастья нет. Покоя —
нет. И воли — тоже нет.
Но есть какие-то приступы бессмысленного
восторга. Неужели это я?
Живу в отеле "Куртис" с множеством
разно образных увеселений. Есть бар. Есть бассейн. Есть какая-то подозрительная
"Гавана-рум". Есть лавка сувениров, где я приобрел купальные трусики для
Миссисипи. (На передней части изображена сосиска и два крутых яйца...)
Есть чистые простыни, горячая
вода, телевизор, бумага. Есть потрясающий сосед — Эрнст Неизвестный. (Только
что он убедительно доказывал Гаррисону Солсбери: "Вертикаль — это Бог.
Горизонталь — это Жизнь. В точке пересечения — я, Микеланджело, Шекспир
и Кафка...")
Есть — вы, которому я шлю это
дурацкое письмо.
Живу в отеле. Участвую в каком-то
непонятном симпозиуме. Денег — около сотни.
Рано утром выйду из гостиницы.
Будет прохладно и сыро. Меня остановит какой-нибудь голодранец и спросит:
— Нет ли спичек?
Я отвечу:
— Держи.
И протяну ему зажигалку. И человеку
будет трудно прикурить на ветру. И тогда я добавлю:
— В себя, в себя...
И вряд ли он будет глазеть мне
в след. Потому что эти несколько слов я могу выговорить без акцента.
Он скажет:
— Прохладный день сегодня.
И я отвечу:
— Surе.
И мы пойдем — каждый своей дорогой.
Два абсолютно свободных человека. Участник непонятного симпозиума и голодранец
в джемпере, которому позавидовал бы Евтушенко...
Ночью мы играли в бинго. И Неизвестный
проиграл четыре раза. Значит, он победит в какой-то другой, неведомой игре...
Всех обнимаю. Скоро увидимся.
Везу небольшой отрывок и конец тюремной повести. Мне его передали через
Левина из Техаса. Начало отсутствует. Начиналась она, я помню, так:
"На Севере вообще темнеет рано.
А в зоне особенно..."
Я эту фразу куда-нибудь вставлю.
Ну, до встречи...
Как только оборвался рев моторов, высоко
над головами зашумели сосны. Заключенные бросили работу, вытащит ложки
из-за голенищ, пошли к сараю.
Баландер погрузил черпак в густую и
темную жижу.
Ели молча, затем достали кисеты и прикурили
от головни.
Дым костра уходил, становился бледным
октябрьским небом. Было тихо. Сосны шумели в опустевшем без гула моторов
пространстве над лесоповалом,
— Поговорим о чудесах? — сказал бугор
Агешин, надвинув рваный зековский треух.
— Кончай, — отозвался Белуга, — после
твоих разговоров не спится.
— Не спится? А ты возьми ЕГО — да об
колено! На воле свежий заведешь, куда богаче...
Зеки нехотя рассмеялись. Осенний воздух
был пропитан запахом солярки. Покачивались деревья в бледном небе. Солнце
припадало к шершавым желтоватым баланам.
В стороне курили двое. Коротконогий
парень в застиранной телогрейке — Ерохин. И бывший прораб, уроженец черниговской
области, тощий мужик — Замараев.
— Пустой ты человек, Ероха, — говорил
Замараев, — пустой и несерьезный. Таким в гробу и в зоосаде место...
— Уймись, — сказал Ероха, — попер как
на буфет!.. А то ведь у меня не заржавеет. Могу пощекотить...
— Испугал... Все треплешь языком, а
жизнь проходит...
Ерохин рассердился:
— Брось мансы раскидывать, чернуха здесь
не пролазит... Да и что с тобой говорить? Ты же серый! Ты же позавчера
на радиоприемник с вилами кидался... Одно слово — мужик...
— У нас в каждой избе — радиоточка,
— сказал Замараев.
Он мечтательно возвысил глаза и продолжал:
— У меня пятистенка была... Сарай под
шифером... Коровник рубленый... За окнами — жасмин... Я жил по совести.
Придет, бывало, кум на разговенье...
— Кум? — забеспокоился Ероха. — Опер,
что ли?
— Опер... Сам ты — опер. Кум, говорю...
Родня... Придет, бывало. Портвейного вина несет бутылку... Кум у меня серьезный
человек был, инвалид...
— Партийный, что ли? — снова вмешался
Ероха.
— Беспартийный коммунист, — отчеканил
Замараев,— ногу потерял в ежовщину...
— Значит, враг народа?
— Не враг, а лейтенант ОГПУ. Таких,
как мы, шакалов охранял. Ноги лишился. На боевом посту отморозил... Из
рядов его выгнали, но пенсию дали...
— Зря, — сказал Ероха.
Замараев не расслышал. По лицу его бродила
счастливая улыбка. Он продолжал:
— Да кум мой пошутить любил. Бывало,
говорит с порога: "Иди за маленькой!" Я только галоши надену, а кум смеется:
"Отставить, у меня есть". И достает бутылку красного. У нас вино продавалось
за рубль четыре. А на вкус как за рубль семьдесят две. Разольем, бывало...
Благодать, порядок в доме... Я жил по совести...
— По совести... А сел за что?
Замараев молча стукнул веточкой по голенищу.
— За что, говорю, сел? — не унимался
Ероха.
— Да за олифу.
— Крал, что ли?
— Олифу-то?
— Ну.
— Олифу-то да.
— По совести... А потом ее куда? На
базар?
— Нет, пил заместо лимонада.
— Так, — усмехнулся Ероха, — сколько
ж ты олифы двинул?
— Эх, было время, — сказал Замараев,
— было время... Олифы-то? Тонны две.
— Сколько ж это денег? Полкуска?
— По иску — сорок тыщ. На старые, конечно...
— Ого! А если взять на кир перевести?
— Пустой ты человек, — рассердился Замараев,
— одно у тебя в голове. Ты шел бы в цирк заместо кенгуру. Слыхал про кенгуру?
Такая, с гаманцом на брюхе...
— Да не прихватывай ты, — сказал Ероха,
— не прихватывай. А то как дам по чавке!
— Ладно, — остановил его Замараев, —
проехали... А сел я за то, что завидно людям с чужих миллионов. С деньгами я кругом начальник. Деньги — сила...
— Вот наступит коммунизм, — злобно произнес
Ероха, — и останешься ты без денег, хуже грязи. При коммунизме деньги-то
отменят...
— Навряд ли, — сказал Замараев, — без
денег все растащат. Так что не отменят. А будут деньги — мне и коммунизм
не страшен.
— На что тебе, серому, деньги? Керогаз
разжигать? Ты полботинки хоть когда-либо носил? Импортные полботинки?
— Хотя бы китайские, — шумел Ероха,
изумленно глядя на свои разбитые лагерные прохаря.
— Сапоги у меня были яловые, — Замараев,
— деверем пошиты.
— Как это — деревом? — не понял Ероха.
— Дикий ты парень. Русского языка не
понимаешь..
Но Ероху уже понесло дальше:
— Вот мне бы эти сорок тыщ! Так я бы
раскрутился. По-твоему, жизнь — что? Она — калейдоскоп! Уж я давал гастроль на воле. Придешь, бывало, в коктейль-холл. Швыряешь три червонца.
Тебе — коньяк, бефстроганов, филе... Опять же музыка играет, всюду девы.
Разрешите, как говорится, на тур вальса? В смысле, танго... Она танцует,
разодета, блестит, как щука... После везешь ее на хату... В дороге — чего-нибудь
из газет, Сергей Есенин, летающие тарелки... Ну, я давал гастроль!.. А
если вдруг отказ, то я знал метод, как любую уговорить по-хорошему. Метод
простой: "Ложись, — говорю, — сука, а то убью!.." Да, я умел рогами шевелить.
Аж девы подо мной кричали!..
— Что без толку кричать? — сказал Замараев.
— Эх ты, деревня! А секс?
— Чего? — не понял Замараев.
— Секс, говорю...
— Ты по-людски скажи.
— Да любовь же, любовь.. По-твоему,
любовь — это что? Любовь — это... Любовь — это... калейдоскоп. Типа — сегодня
одна, завтра другая...
— Любовь, — сказал Замараев, — это чтобы
порядок в доме. Чтобы уважение... А с твоими и по деревне не ходи. От людей
срамотища.
— Да ты всю жизнь на одной кобыле ездил.
А у меня в каждом СМУ — законная жена... Конечно, я не говорю... Бывает...
Поймаешь что-либо на кончик...
— А? — не понял Замараев.
— На кончик, говорю... Ну, это... гонорея...
— Чего?
— Во мужик, гонореи не знает! Да трипак
же, трипак!
— А-а, — Замараев чуть отодвинулся,
— ты вообще как сюда попал? Не за это ли случайно?
— На танцах взяли. Намекнул одному шабером
под ребра.
— С концами, что ли?
— Где с концами?! Выжил гад. Он, падла,
на суде кричит:
"Ерохина прощаю!"
А прокурор — в отказ:
"Вы-то — да, а общество простить не
может..."
Сначала я в глухую несознанку шел. Кричу:
"Напился, все забыл!.."
Ну, а в конце менты подраскололи. Сознался.
Кричу:
"Стреляй! Чего не стреляешь, козел?!
Видел бы Ленин твою штрафную чавку!.."
Это я — прокурору. Вот он и дал мне
три года ни за что. Про меня в газете статья была. Не веришь? Ей-богу!
Называлась — "Плесень".
— Оно и видно, — сказал Замараев.
— А хочешь, я тайну скажу? — неожиданно
выговорил Ерохин. — Хочешь, скажу тайну, от которой позеленеешь. Только
— чтобы никому...
— Знаю я ваши тайны. Кабур роете под
хлеборезку.
— Кабур — это что... Ну, хочешь, скажу?
Тебе одному, как другу. Вот слушай: я по матери — Эпштейн...
— Эпштейн, — недоверчиво прищурился
Замараев,— видали мы таких Эпштейнов... Да ты — фоняк, как и не мы... А
если ты Эпштейн, зачем сидишь по хулиганке? Зачем не по торговой части
шел?
— В отца, — коротко пояснил Ероха.
— Эпштейн, — повторял Замараев.
— Деревня, — слышалось в ответ...
Гул сигнального рельса медленно канул
в просторном октябрьском небе. Донесся стук пилорамы. За деревьями, громыхая,
прошел лесовоз.
— Пойду молотить, — сказал Ероха.
Он поднялся, стряхнул табачные крошки.
Затем, не оглядываясь, двинулся через лес к инструменталке.
— Вот так мужик, гонореи не знает, —
усмехнулся Ероха.
— Пустой человек, несерьезный, — бормотал
ему вслед Замараев.
"Кого только не прихватывают", — думал
Ероха.
"Откуда такие берутся?" — вторил ему
прораб...
Лес наполнился туманом. Залаяла собака
на блокпосту. Появился опер Борташевич в узких хромовых сапогах.
Заключенные нехотя встали, потушили
костер и разошлись. На вышках сменились часовые. Кто-то от скуки включил
прожектор.
17 апреля 1982 года. Нью-Йорк
Я все думаю о нашем разговоре.
Может быть, дело в том, что зло произвольно. Что его определяют — место
и время. А если говорить шире — общие тенденции исторического момента.
Зло определяется конъюнктурой,
спросом, функцией его носителя. Кроме того, фактором случайности. Неудачным
стечением обстоятельств. И даже — плохим эстетическим вкусом.
Мы без конца проклинаем товарища
Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал
четыре миллиона доносов? (Эта цифра фигурировала в закрытых партийных документах.)
Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?
Ничего подобного. Их написали
простые советские люди. Означает ли это, что русские — нация доносчиков
и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического
момента.
Разумеется, существует врожденное
предрасположение к добру и злу. Более того, есть на свете ангелы и монстры.
Святые и злодеи. Но это — редкость. Шекспировский Яго, как воплощение зла,
и Мышкин, олицетворяющий добро, — уникальны. Иначе Шекспир не создал бы
"Отелло".
В нормальных же случаях, как я
убедился, добро и зло — произвольны.
Так что, упаси нас Бог от пространственно-временной
ситуации, располагающей ко злу...
Одни и те же люди выказывают равную
способность к злодеянию и добродетели. Какого-нибудь рецидивиста я легко
мог представить себе героем войны, диссидентом, защитником угнетенных.
И наоборот, герои войны с удивительной
легкостью растворялись в лагерной массе.
Разумеется, зло не может осуществляться
в качестве идейного принципа. Природа добра более тяготеет к широковещательной
огласке. Тем не менее в обоих случаях действуют произвольные факторы.
Поэтому меня смешит любая категорическая
нравственная установка. Человек добр!.. Человек подл!.. Человек человеку
— друг, товарищ и брат...
Человек человеку — волк... И так
далее.
Человек человеку... как бы это
получше выразиться — табула раса. Иначе говоря — все, что угодно. В зависимости
от стечения обстоятельств.
Человек способен на все — дурное
и хорошее.
Мне грустно, что это так.
Поэтому дай нам Бог стойкости
и мужества.
А еще лучше — обстоятельств времени
и места, располагающих к добру...
За двенадцать лет службы у Егорова накопилось
шесть пар именных часов "Ракета". Они лежали в банке из-под чая. А в ящике
стола у него хранилась кипа похвальных грамот.
Незаметно прошел еще один год.
Этот год был темным от растаявшего снега.
Шумным от лая караульных псов. Горьким от кофе и старых пластинок.
Егоров собирался в отпуск. Укладывая
вещи, капитан говорил своему другу оперу Борташевичу:
— Приеду в Сочи. Куплю рубаху с попугаями.
Найду курортницу без предрассудков...
— Презервативы купи, — деловито советовал
опер.
— Ты не романтик, Женя, — отвечал Егоров,
доставая из ящика несколько маленьких пакетов, — с шестидесятого года валяются...
— И что — ни разу?! — выкрикивал Борташевич.
— По-человечески — ни разу. А то, что
было, можно не считать...
— Понадобятся деньги — телеграфируй.
— Деньги — не проблема, — отвечал капитан...
Он прилетел в Адлер. Купил в аэропорту
малиновые шорты. И поехал автобусом в Сочи.
Там он познакомился с аспиранткой Катюшей
Лугиной. Она коротко стриглась, читала прозу Цветаевой и недолюбливала
грузин.
Вечером капитан и девушка сидели на
остывающем песке. Море пахло рыбой и водопроводом. Из-за кустов с танцплощадки
доносились прерывистые вопли репродуктора.
Егоров огляделся и притянул девушку
к себе. Та вырвалась, оскорбленно чувствуя, какими жесткими могут быть
его руки.
— Бросьте, — сказал Егоров, — все равно
этим кончится. Незачем разыгрывать мадам Баттерфляй...
Катя, не замахиваясь, ударила его по
лицу.
— Стоп! — выговорил капитан. — Удар
нанесен открытой перчаткой. Судья на ринге делает вам замечание...
Катя не улыбнулась:
— Потрудитесь сдерживать ваши животные
инстинкты!
— Не обещаю, — сказал капитан.
Девушка взглянула на Егорова миролюбиво.
— Давайте поговорим, — сказала она.
— Например, о чем? — вяло спросил капитан.
— Вы любите Гейне?
— Более или менее.
— А Шиллера?
— Еще бы...
Днем они катались на лодке. Девушка сидела
на корме. Егоров широко греб, ловко орудуя веслами.
— Поймите же, — говорила Катя, — цинизм
Есенина — это только маска. Бравада... свойственна тем, кто легко раним...
Или:
— Прошлым летом за мной ухаживал Штоколов.
Как-то Борис запел в гостях, и два фужера лопнули от резонанса.
— Мне тоже случалось бить посуду в гостях,
— реагировал капитан, — это нормально. Для этого вовсе не обязательно иметь
сильный голос...
Или:
— Мне кажется, разум есть осмысленная
форма проявления чувства. Вы не согласны?
— Согласен, — говорил капитан, — просто
я отвык...
Как-то раз им повстречалась в море лодка.
Под рулем было выведено ее название — "Эсмеральда".
— Эй, на полубаке! — закричал Егоров,
всем опытом и кожей чувствуя беду. Ощутив неприятный сквознячок в желудке.
Правил "Эсмеральдой" мужчина в зеленой
бобочке. На корме лежал аккуратно свернутый голубой пиджак.
Капитан сразу же узнал этого человека.
Фу, как неудобно, подумал он. Чертовски
неудобно перед барышней. Получается какой-то фрайерский детектив...
Егоров развернулся и, не оглядываясь,
поплыл к берегу...
Они сидели в чебуречной на горе. Блестели
лица, мигали светильники, жирный туман наполнял помещение.
Егоров снисходительно пил рислинг, а
Катя говорила:
— Нужно вырваться из этого ада... Из
этой проклятой тайги... Вы энергичны, честолюбивы... Вы могли бы добиться
успеха...
— У каждого свое дело, — терпеливо объяснял
Егоров, — свое занятие... И некоторым достается работа вроде моей. Кто-то
должен выполнять эти обязанности?
— Но почему именно вы?
— У меня есть к этому способности. Нервы
в порядке, мало родственников.
— Но у вас же диплом юриста?
— В какой-то мере сие облегчает работу.
— Если бы вы знали, Павел Романович,
— сказала
Катя, — если бы вы только знали... Ах,
насколько вы лучше моих одесских приятелей! Всех этих Мариков, Шуриков,
Толиков... Разных там Стасов в оранжевых носках...
— У меня тоже есть оранжевые носки,
— воскликнул капитан, — подумаешь... Я их у спекулянта приобрел...
К столику приблизился красноносый дядька.
— Я угадал рецепт вашего нового коктейля,
— сказал
Егоров, — забористая штука! Рислинг
пополам с водой!..
Они пошли к выходу. У окна сидел мужчина
в зеленой бобочке и чистил апельсин. Егоров хотел пройти мимо, но тот заговорил:
— Узнаете, гражданин начальник?
Боевик, подумал Егоров, ковбойский фильм.
— Нет, — сказал он.
— А штрафной изолятор вы помните?
— Нет, я же сказал.
— А пересылку на Витью?
— Никаких пересылок. Я в отпуске...
— Может, лесоповал под Синдором? — не
унимался бывший зек.
— Там было слишком много комаров, —припомнил
Егоров.
Мужчина встал. Из кулака его выскользнуло
узкое белое лезвие. Тотчас же капитан почувствовал себя большим и мягким.
Пропали разом запахи и краски. Погасли все огни. Ощущения жизни, смерти,
конца, распада сузились до предела. Они разместились на груди под тонкой
сорочкой. Слились в ослепительно белую полоску ножа.
Мужчина уселся, продолжая чистить апельсин.
— Что ему нужно, — спросила девушка,
— кто это?
— Пережиток капитализма, — ответил Егоров,
вообще-то изрядная сволочь. Простите меня...
Говоря это, капитан подумал о многом.
Ему хотелось выхватить из кармана ПМ. Затем — вскинуть руку. Затем опустить
ее до этих ненавидящих глаз... Затем грубо выругаться и нажать спусковой
крючок...
Всего этого не случилось. Мужчина сидел
неподвижно. Это была неподвижность противотанковой мины.
— Молись, чтоб я тебя не встретил, —
произнес Егоров, — а то застрелю, как собаку...
Капитан и девушка гуляли по аллее. Ее
пересекали тени кипарисов.
— Чудесный вечер, — осторожно сказала
Катя.
— Восемнадцать градусов, — уточнил капитан.
Низко пролетел самолет. Иллюминаторы
его были освещены.
Катя сказала:
— Через минуту он скроется из виду.
А что мы знаем о людях, которые там? Исчезнет самолет. Унесет невидимые
крошечные миры. И станет грустно, не знаю почему...
— Екатерина Сергеевна, — торжественно
произнес капитан и остановился, — выслушайте меня... Я одинокий человек...
Я люблю вас... Это глупо... У меня нет времени, от пуск заканчивается...
Я постараюсь... Освежу в памяти классиков... Ну и так далее... Я прошу
вас...
Катя засмеялась.
— Всех благ, — произнес капитан, — не
сердитесь. Прощайте...
— Вас интересует, что я думаю? Хотите
меня выслушать?
— Интересует, — сказал капитан, — хочу.
— Я вам очень благодарна, Павел Романович.
Я посоветуюсь... и уеду с вами...
Он шагнул к ней. Губы у девушки были
теплые и шершавые, как листок, нагретый солнцем.
— Неужели я вам понравился? — спросил
Егоров.
— Я впервые почувствовала себя маленькой
и беспомощной. А значит, вы сильный.
— Тренируемся понемногу, — сказал капитан.
— До чего же вы простой и славный!
— У меня есть более ценное достоинство,
— объявил капитан, — я неплохо зарабатываю. Всякие там надбавки и прочее.
Зря вы смеетесь. При социализме это важно. А коммунизм все еще проблематичен...
Короче, вам, если что, солидная пенсия будет.
— Как это — если что?
— Ну, там, пришьют меня зеки. Или вохра
пьяная что нибудь замочит... Мало ли... Офицеров все ненавидят, и солдаты,
и зеки...
— За что?
— Работа такая. Случается и поприжать
человека...
— А этот? В зеленой кофте? Который вам
ножик показывал?
— Не помню...Вроде бы я его приморил
на лесоповале...
— Ужас!
Они стояли в зеленой тьме под ветками.
Катя сказала, глядя на яркие окна пансионата:
— Мне пора. Тетка, если все узнает,
лопнет от злости.
— Я думаю, — сказал капитан, — что это
будет зрелище не из приятных...
Через несколько минут он шел по той же
аллее — один. Он шел мимо неясно белеющих стен. Мимо дрожащих огней. Под
шорохом темных веток.
— Который час? — спросил у него запоздалый
прохожий.
— Довольно поздно, — ответил капитан.
Он зашагал дальше, фальшиво насвистывая
старый мотив, румбу или что-то в этом плане...
3 мая 1982 года. Бостон
Недавно я перечитывал куски из
вашей "Метаполитики". Там хорошо написано об издержках свободы. О том,
какой ценой, свобода достается.
О свободе как постоянной цели,
но и тяжком бремени...
Посмотрите, что делается в эмиграции.
Брайтонский НЭП — в разгаре. Полно хулиганья. (Раньше я был убежден, что
средний тип еврея — профессор Эйхенбаум.)
Недавно там открыли публичный
дом. Четыре барышни — русские и одна филиппинка...
Налоговое ведомство обманываем.
В конкурентов постреливаем. В газетах печатаем Бог знает что...
Бывшие кинооператоры, торгуют
оружием. Бывшие диссиденты становятся чуть ли не прокурорами. Бывшие прокуроры
— диссидентами...
Хозяева ресторанов сидят на вэлфейре
и даже получают фудстемпы. Автомобильные права можно купить за сотню. Ученую
степень — за двести пятьдесят...
Обидно думать, что вся эта мерзость
— порождение свободы. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному,
и к хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и
марихуана...
В этой связи я припоминаю одну
невероятную лагерную историю. Заключенный Чичеванов, грабитель и убийца,
досиживал на особом режиме последние сутки. Назавтра его должны были освободить.
За плечами оставалось двадцать лет срока. Я сопровождал его в головной
поселок. Мы ехали в автозаке с железным кузовом. Чичеванов, согласно инструкции,
помещался в тесной металлической камере. В дверях ее было проделано отверстие.
Заключенные называют это приспособление: "Я его вижу, а он меня — нет".
Я, согласно той же инструкции,
расположился в кузове у борта. В дороге мне показалось нелепым так бдительно
охранять Чичеванова. Ведь ему оставалось сидеть несколько часов.
Я выпустил его из камеры. Мало
того — затеял с ним приятельскую беседу.
Внезапно коварный зек оглушил
меня рукояткой пистолета. (Как вы догадываетесь — моего собственного пистолета.)
Затем он выпрыгнул на ходу и бежал.
Шесть часов спустя его задержали
в поселке Иоссер. Чичеванов успел взломать продуктовый ларь и дико напиться.
За побег и кражу ему добавили четыре года...
Эта история буквально потрясла
меня. Случившееся казалось невероятным, противоестественным и даже трансцендентным
явлением. Но капитан Прищепа, старый лагерный офицер, мне все разъяснил.
Он сказал:
— Чичеванов отсидел двадцать лет.
Он привык. Тюрьма перестроила его кровообращение, его дыхательный и вестибулярный
аппарат. За воротами тюрьмы ему было нечего делать. Он дико боялся свободы
и задохнулся, как рыба...
Нечто подобное испытываем мы,
российские эмигранты.
Десятилетиями мы жили в условиях
тотальной несвободы. Мы. были сплющены наподобие камбалы тягчайшим грузом
всяческих запретов. И вдруг нас подхватил разрывающий легкие ураган свободы.
И мы отправились взламывать продуктовый
ларь...
Кажется, я отвлекся.
Следующие два фрагмента имеют
отношение к предыдущему эпизоду. В них фигурирует капитан Егоров — тупое
и злобное животное. В моих рассказах он получился довольно симпатичным.
Налицо метаморфозы творческого процесса...
Раньше это было что-то вроде повести.
Но Дрейцер переслал мне лишь разрозненные страницы. Я попытался их укомплектовать.
Создал киномонтаж в традициях господина Дос-Пассоса. Кстати, в одной старой
рецензии меня назвали его эпигоном...
Катя повернула выключатель, окна стали
темными.
Было очень рано. В прихожей гулко тикали
ходики.
Катя сунула ноги в остывшие домашние
чуни. Вышла на кухню. Вернулась. Постояла немного, кутаясь в синий байковый
халатик. Затем оторвала листок календаря, стала читать внимательно и медленно,
так, словно от этого зависело многое:
"Двадцать восьмое февраля. Четверг.
Пятьсот шестьдесят лет назад родился Абдуррахман Джами. Имя этого выдающегося
деятеля персидской культуры... "
— Егоров, проснись, — сказала Катя,
— вода замерзла.
Капитан беспокойно заворочался во сне.
— Павел, в умывальнике — лед...
— Нормально, — сказал капитан, — вполне
нормально... При нагревании образуется лед... А при охлаждении... Не так...
При охлаждении — лед. А при нагревании — дым... Третий закон Ньютона. В
чем я отнюдь не уверен...
— Снегу намело до форточки. Павел, не
спи...
— Осадки, — реагировал Егоров, — ты
лучше послушай, какой я a.— видел. Как будто Ворошилов подарил мне саблю.
И этой саблей я щекочу майора Ковбу...
— Павел, не кривляйся.
Капитан быстро поднялся, выкатил из
угла холодные черные гантели.
При этом он сказал:
— Век тренируйся, а кита не перепьешь...
И все равно не будешь таким сильным, как горилла...
— Павел!
— Что такое?! Что случилось?
Егоров подошел к ней и хотел обнять.
Катя вырвалась и громко заплакала. Она
вздрагивала и кривила рот.
— А плакать зачем? — тихо спросил Егоров.
— Плакать не обязательно. Тем более — рыдать...
Тогда Катя закрыла лицо руками и сказала
медленно-медленно. Так, чтобы не помешали слезы:
— Я больше не могу.
Помрачнев, капитан достал сигарету.
Молча закурил.
За окнами бродило серое морозное утро.
Голубоватые длинные тени лежали на снегу.
Егоров медленно оделся, накинул ватник,
захватил топор. Снег взвизгивал под его лыжными ботинками.
"Ведь где-то есть иная жизнь, — думала
Катя, — совсем иная жизнь... Там земляника, костры и песни... И лабиринт
тропинок, пересеченных корнями сосен... И реки, и люди,. ожидающие переправы...
Где-то есть серьезные белые книги. Вечно ускользающая музыка Баха... шорох
автомобильных колес... А здесь — лай собак. Пилорама гудит с утра до вечера,
А теперь еще и лед в умывальнике... "
Катя подышала на стекло. Егоров ставил
чурбан. Некоторое время приглядывался к сучкам. Потом коротко замахивался
и резко опускал топор, слегка наклонив его...
По радио звучал "Турецкий марш". Катя
представила себе турецкое войско. Как они бредут по глубокому снегу в тяжелых
чалмах. Пробираются от АХЧ к инструменталке. Их ятаганы примерзли к ножнам,
чалмы обледенели...
"Боже, — подумала Катя, — я теряю рассудок!"
Егоров вернулся с охапкою дров. Обрушил
их возле печки. Затем вынул из кармана тюремный месырь с фиксатором, отнятый
при шмоне. Стал щепать лучину...
"Раньше я любила зиму, — думала Катя,
— а теперь ненавижу. Ненавижу мороз по утрам и темные вечера.
Ненавижу лай собак, заборы, колючую
проволоку. Ненавижу сапоги, телогрейки... и лед в умывальнике..."
— Молчи, — сказала она, — я ненавижу
твою правоту!
— Как это? — не понял Егоров, затем
сказал: — Ну, хочешь, привезу из Вожаеля яблок, шампанского, позовем Женьку
Борташевича с Ларисой...
— Твой Борташевич стрижет за обедом
ногти.
— Тогда Вахтанга Кекелидзе. У него папаша
— князь.
— Кекелидзе — пошляк!
— То есть?
— Ты не знаешь.
— Почему не знаю, — сказал капитан,
— я знаю.
— Я знаю, что он к тебе цеплялся. У
грузин такой порядок. Парень холостой... Неприятно, конечно... Можно и
в рыло заехать...
— Женщине это необходимо.
— Что именно?
— Чтобы за ней ухаживали.
— Родить тебе надо, — сказал капитан...
Хриплый, вибрирующий лай на питомнике
усилился.
Среди других голосов выделялся один
нарастающий тембр.
— Почему меня не раздражали чайки, —
сказала Катя, — или дикие утки? Я не могу, не могу, не могу переносить
этот лай...
—Это Гарун, — сказал Егоров.
— Ужас...
— Ты еще волков не слышала. Страшное
дело...
В печке, разгораясь, шипели дрова. И
вот уже запахло мокрым снегом.
— Павел, не сердись.
— Чего сердиться?..
— Привези из Вожаеля яблок.
— Между прочим, лед в умывальнике тает.
Катя подошла сзади, обняла его.
— Ты большой, — сказала она, — как дерево
в грозу. Мне за тебя страшно.
— Ладно, — сказал он, — все будет хорошо.
Все будет просто замечательно.
— Неужели все будет хорошо?
— Все будет замечательно. Если сами
мы будем хорошими. А правда, что лед в умывальнике тает?
— Правда, — сказал он, — это нормально.
Закон природы...
На питомнике снова залаял Гарун.
— Погоди, — отстранил Катю Егоров, —
я сейчас вернусь. Дело минуты...
Катя опустила руки. Вышла на кухню.
Приподняла тяжелую крышку умывальника. Там оплывала небольшая глыба льда.
— Действительно — тает, — вслух произнесла
Катя.
Она вернулась, присела. Егорова не было.
Катя завела охрипший патефон. Она вспомнила
стихи, которые посвятил ей Леня Мак, штангист и непризнанный гений:
...Видно, я тут не совсем кстати...На питомнике раздался выстрел. Хриплый собачий лай перешел на визг и затих.
Патефон давно затих, шепчет...
Лучше вальса подождем, Катя,
Мне его не танцевать легче...
17 мая 1982 года. Принстон
Как вы знаете, Шаламов считает
лагерный опыт — полностью негативным...
Я немного знал Варлама Тихоновича
через Гену Айги. Это был поразительный человек. И все-таки я не согласен.
Шаламов ненавидел тюрьму. Я думаю,
этого мало. Такое чувство еще не означает любви к свободе. И даже — ненависти
к тирании.
Советская тюрьма — одна из бесчисленных
разновидностей тирании. Одна из форм тотального всеобъемлющего насилия.
Но есть красота и в лагерной жизни.
И черной краской здесь не обойтись.
По-моему, одно из ее восхитительных
украшений — язык.
Законы языкознания к лагерной
действительности — неприменимы. Поскольку лагерная речь не является средством
общения. Она — не функциональна.
Лагерный язык менее всего рассчитан
на практическое использование. И вообще, он является целью, а не средством.
На человеческое общение тратится
самый минимум лагерной речи:
"...Тебя нарядчик вызывает..."
— "...Сам его ищу..." Такое ощущение, что зеки экономят на бытовом словесном
материале. В основном же лагерная речь — явление творческое, сугубо эстетическое,
художественно-бесцельное.
Тошнотворная лагерная жизнь дает
языку преференцию особой выразительности.
Лагерный язык — затейлив, картинно
живописен, орнаментален и щеголеват. Он близок к звукописи ремизовской
школы.
Лагерный монолог — увлекательное
словесное приключение. Это — некая драма с интригующей
завязкой, увлекательной кульминацией
и бурным финалом. Либо оратория — с многозначительными паузами, внезапными
нарастаниями темпа,
богатой звуковой нюансировкой
и душераздирающими голосовыми фиоритурами.
Лагерный монолог — это законченный
театральный спектакль. Это — балаган, яркая, вызывающая и свободная творческая
акция.
Речь бывалого лагерника заменяет
ему все привычные гражданские украшения. А именно — прическу, заграничный
костюм, ботинки, галстук и очки. Более того — деньги, положение в обществе,
награды и регалии.
Хорошо поставленная речь часто
бывает единственным оружием лагерного старожила. Единственным для него
рычагом общественного влияния. Незыблемым и устойчивым фундаментом его
репутации.
Добротная лагерная речь вызывает
уважение к мастеру. Трудовые заслуги в лагере не котируются. Скорее — наоборот.
Вольные достижения забыты. Остается — слово.
Изысканная речь является в лагере
преимуществом такого же масштаба, как физическая сила.
Хороший рассказчик на лесоповале
значит гораздо больше, чем хороший писатель в Москве.
Можно копировать Бабеля, Платонова
и Зощенко. Этим не без успеха занимаются десятки молодых писателей. Лагерную
речь подделать невозможно. Поскольку главное ее условие — органичность.
Разрешите воспроизвести не совсем
цензурную запись из моего армейского блокнота.
"Прислали к нам сержанта из Москвы.
Весьма интеллигентного юношу, сына писателя. Желая показаться завзятым
вохровцем, он без конца матерился.
Раз он прикрикнул на какого-то
зека:
— Ты что, ебнУлся?!
(Именно так поставив ударение.)
Зек реагировал основательно:
— Гражданин сержант, вы не правы.
Можно сказать — ебнулся, ебанулся и наебнулся. А ебнУлся — такого слова
в русском литературном языке, уж извините, нет...
Сержант получил урок русского
языка".
Фрайер, притворяющийся вором,
— смешное и неприличное зрелище. О таких говорят: "Дешевка под законника
капает".
Искусство лагерной речи опирается
на давно сложившиеся традиции. Здесь существуют нерушимые каноны, железные
штампы и бесчисленные регламенты. Плюс — необходимый творческий изыск.
Это как в литературе. Подлинный художник, опираясь на традицию, развивает
черты личного своеобразия...
Как это ни удивительно, в лагерной
речи очень мало бранных слов. Настоящий уголовник
редко опускается до матерщины.
Он пренебрегает нечистоплотной матерной скороговоркой. Он дорожит своей
речью и знает ей цену.
Подлинный уголовник ценит качество,
а не децибеллы. Предпочитает точность — изобилию.
Брезгливое: "Твое место у параши"
— стоит десятка отборных ругательств. Гневное: "Что же ты, сука, дешевишь?!"
— убивает наповал. Снисходительное: "Вот так фрайер — ни украсть, ни покараулить"
— дезавуирует человека абсолютно...
В лагере еще жива форма словесного
поединка, блистательной разговорной дуэли. Я часто наблюдал такие бои —
с разминкой, притворной апатией и внезапными фейерверками убийственного
красноречия. С отточенными формулировками на уровне Крылова и Лафонтена:
"Волк и меченых берет..."
В лагере не клянутся родными и
близкими.
Тут не услышишь божбы и многословных
восточных заверений. Тут говорят:
— Клянусь свободой!..
Следующий отрывок — про того же
капитана Егорова. Куски из середины пропали. Там была история с лошадью
— когда-нибудь расскажу. И еще — про бунт на Весляне, когда Егорова оглушили
лопатой...
В общем, потеряно страниц двенадцать.
Все оттого, что наша литература приравнивается к динамиту. По-моему, это
большая честь для нас...
В уборной было чисто и прохладно. Егоров
курил, сидя на подоконнике. За окном пожарные играли в городки. Проехал
хлебный фургон и, качнувшись, затормозил возле булочной.
Егоров потушил сигарету и вышел. Больничный
коридор пересекали солнечные лучи. Тут было много окон — легкие занавески
вздрагивали и покачивались.
По коридору шла медсестра. Она была
похожа на монашку и казалась хорошенькой.
Все больничные медсестры казались хорошенькими.
Да они и были хорошенькими. Поскольку они были юными и здоровыми. А кругом
— так много прозрачных белых занавесок, холодного света, и ничего лишнего...
— Ну как? — спросил Егоров.
— Состояние удовлетворительное, — холодно
ответила медсестра.
У нее были раскосые глаза, аккуратная
челка и голубоватый халат, стянутый на талии.
Медсестры в палатах и регистратуре казались
бесчувственными. Ведь они говорили то, что не каждому приятно слышать...
— Ясно, — сказал капитан, — удовлетворительное
— значит плохое?
— Мешаете работать, — выговорила она
тоном измученной почтовой служащей.
— Сунуть бы тебя головой в мясорубку,
— негромко произнес капитан.
По коридору торопливо шел хирург с четырьмя
ассистентами. Они были выше его ростом. Хирург что-то говорил им, не оборачиваясь.
Егоров стал на дороге.
— Потом, потом, — отстранил хирург,
— мы, врачи, суеверны...
Он почти шутил.
— Если моя жена, — произнес капитан,
— если что-то случится... Все, что будет потом, уже не имеет значения.
— Перестаньте кощунствовать, — сказал
хирург, — идите обедать. Выпейте портвейна. Столовая за углом...
— Какой ты здоровый, — сказал капитан.
— Кто это? — удивился хирург. — Зачем?
Я же просил...
Выйдя из больницы, Егоров заплакал,
отвернувшись к стене. Он вспомнил Катино лицо, детское и злое. Вспомнил
пальцы с обкусанными ногтями. Припомнил все, что было...
Потом закурил и отправился в столовую.
Там было несколько посетителей. Часть дюралевых табуреток стояла штабелем
в углу.
Капитан сел у окна, заказал вино и шницель.
Официантки в столовой казались хорошенькими и похожими на медсестер. На
официантках были яркие шелковые блузки и кружевные передники. Кассирша
недовольно поглядывала в зал. Перед ней лежала толстая рваная книга.
Обедая, Егоров наблюдал, как два солдата
моют грузовик.
Он вышел из столовой, купил газету.
Повертел и сунул ее в карман. Навстречу шла женщина с метлой. Женщина царапала
мостовую с расплющенными окурками.
Проехал на велосипеде железнодорожник.
Спицы образовывали легкий мерцающий круг.
Час спустя Егоров зашел в клинику. Он
стоял в коридоре под люстрой. На окне качалось растение с твердыми зелеными
побегами. Цветы в больнице казались искусственными.
По коридору шел хирург. Мокрые руки
он нес перед собой, как вещь. Медсестра подала ему салфетку. Затем направилась
к Егорову.
Вдруг она показалась ему некрасивой.
Она была похожа на умного серьезного мальчика. На медсестре был халат с
чернильным пятнышком у ворота и заношенные домашние туфли.
— Вашей жене получше, — расслышал капитан,
— Маневич сделал чудо.
Егоров оглянулся — хирурга не было.
Он сделал чудо и затем ушел.
— Как фамилия? — переспросил Егоров,
но медсестра тоже ушла.
Он спустился вниз по лестнице. Гардеробщик
подал ему шинель. Капитан протянул ему рубль. Старик уважительно приподнял
брови.
Медсестра в регистратуре напевала:
...Подари мне лунный камень,Она показалась Егорову некрасивой.
Талисман моей любви...
24 мая 1982 года. Нью-Йорк
Я уже говорил, что зона представляет
собой модель государства. Здесь есть спорт, культура, идеология. Есть нечто
вроде коммунистической партии. (Секция внутреннего порядка.) В зоне есть
командиры и рядовые, академики и невежды, миллионеры и бедняки.
В зоне есть школа. Есть понятия
— карьеры, успеха.
Здесь сохраняются все пропорции
человеческих отношений.
Огромное место в лагерной жизни
занимает переписка с родными. Хотя родственники есть далеко не у всех.
А на особом режиме — тем более.
Сказываются годы лагерей и тюрем.
Жены нашли себе других поклонников. Дети настроены против своих отцов.
Друзья и знакомые либо тянут срок, либо потерялись в огромном мире. Те
же, у кого есть родные и близкие, дорожат перепиской с ними — чрезвычайно.
Письмо из дома — лагерная святыня.
Упаси вас Бог смеяться над этими письмами.
Их читают вслух. Незначительные
детали преподносятся как форменные сенсации.
Например, жена сообщает:
"...Ленька такой настойчивый.
Кол по химии схватил..."
Счастливый отец прерывает чтение:
— Ишь ты, кол по химии...
Его физиономия растягивается в
довольной улыбке.
И весь барак уважительно повторяет:
— Кол по химии... Это тебе не
хрен собачий...
Иное дело — переписка с "заочницами".
В ней много цинизма, притворства, рисовки.
Такие письма составляются коллективно.
В них заключенные изображают себя жертвами трагических обстоятельств. Изъявляют
горячее желание вернуться к созидательному труду. Сетуют на одиночество
и людскую злобу.
В зоне есть корифеи эпистолярного
жанра. Мастера по составлению душераздирающих текстов. Вот характерное
начало лагерного письма к "заочнице":
"Здравствуй, незнакомая женщина
(а может быть — девушка) Люда! Пишет тебе бывший упорный домушник, а ныне
квалифицированный водитель лесовоза — Григорий. Карандаш держу левой рукой,
ибо правая моя рука гноится от непосильного труда..."
Переписка с "заочницами" — фальшива
и вычурна. Но и в этих письмах содержится довольно глубокое чувство.
Очевидно, заключенному необходимо
что-то лежащее вне его паскудной жизни. Вне зоны и срока. Вне его самого.
Нечто такое, что позволило бы ему забыть о себе. Хотя бы на время отключить
тормоза себялюбия. Нечто безнадежно далекое, почти мифическое. Может быть,
дополнительный источник света. Какой-то предмет бескорыстной любви. Не
слишком искренней, глупой, притворной. Но именно — любви.
Притом, чем безнадежнее цель,
тем глубже эмоции.
Отсюда — то безграничное внимание,
которым пользуются лагерные женщины.
Их, как правило, несколько в зоне.
Работают они в административно-хозяйственном секторе, бухгалтерии и медицинской
части. Помимо этого, есть жены офицеров и сверхсрочников, то и дело наведывающиеся
в лагерь.
Здесь каждую, самую невзрачную,
женщину провожают десятки восторженных глаз.
Это внимание по-своему целомудренно
и бес корыстно. Женщина уподобляется зрелищу, театру, чистому кино. Сама
недосягаемость ее (а положение вольной женщины делает ее практически недосягаемой)
определяет чистоту мыслей.
— Ты посмотри, — говорят зеки,
— какая женщина!.. Уж я бы подписался на эту марцифаль!..
Тут — упор на существительное.
Тут поражает женщина вообще, а не ее конкретные достоинства. Тут властвует
умами женщина как факт. Женщина, как таковая, является чудом.
Она — марцифаль. То есть нечто
загадочное, возвышенное, экзотическое. Кефаль с марципаном...
Зеки крайне редко посягают на
вольных служащих женщин. Во-первых, это безнадежно. Чересчур велика социальная
пропасть. Кроме того, это не главное. Гораздо важнее — культ, мечта, наличие
идеала.
При этом воображаемые амуры с
женой начальника лагеря — одна из распространенных коллизий местного фольклора.
Один из бродячих сюжетов тюремного мифотворчества.
В этом почти фантастическом сюжете
есть несомненная художественная логика. Именно так реализуется мечта о
социальном возмездии.
Что-то подобное случается и на
воле. В Таллинне у меня был приятель Эйно Рипп. Ему удалось соблазнить
жену эстонского министра культуры.
Она была косоглазой настолько,
что посторонние люди в ресторане спрашивали:
— Что вы на меня так смотрите?..
Тем не менее Рипп ее обожал. Рипп
само утверждался, обладая женой партийного функционера. Истязая эту женщину,
Рипп переживал мгновения социального торжества.
Рипп говорил мне:
— В ее лице я уделал проклятый
советский режим...
Вернемся к нашей рукописи. Осталось
четыре разрозненных куска. Пересказывать утраченные страницы — глупо. Восстановить
их — невозможно. Поскольку забыто главное — каким был я сам.
В общем — смотрите...
Попробуйте зайти к доктору Явшицу с оторванной
головой в руке. Он посмотрит на вас унылыми близорукими глазами и равнодушно
спросит:
— На что жалуетесь, сержант?
Чтобы добиться у Явшица освобождения,
нужно пережить авиационную катастрофу. И все-таки за год я научился симулировать
болезни — от радикулита до катара. Я разработал собственный метод. Метод
заключался в следующем. Я просто называл какой угодно фантастический симптом.
И затем отстаивал его с диким упорством. Целый месяц, например, я дурачил
Явшица, повторяя:
— Такое ощущение, доктор, что из меня
выкачивают, кислород. Кроме того, у меня болят ногти и чешется позвоночник...
Однако в этот раз мне не повезло. Мой
радикулит бесславно провалился. Явшиц сказал мне:
— Можете идти, сержант.
И демонстративно раскрыл Сименона.
— Интересно, — сказал я, давая понять,
что на врача ложится ответственность за губительный ход болезни.
— Не задерживаю вас, — промолвил доктор.
Я напился из цинкового бачка, заглянул
в ленинскую комнату.
Там в одиночестве сидел Фидель. Перед
ним был опрокинутый стул. Уподобляясь древним мастерам, Фидель покрывал
изысканной резьбой нижнюю часть сиденья. При этом он что-то напевал.
— Здорово, — говорю.
Фидель отодвинул стул. Затем гордо поглядел
на свою работу. Я прочел короткое всеобъемлющее ругательство.
— Вот, — сказал он, — крик души!
Потом спросил:
— Тебе Эдита Пьеха нравится? Только
откровенно:
— Еще бы, — сказал я.
— На лицо и на фигуру?
— Ну.
— А ведь ее кто-нибудь это самое, —
размечтался Фидель.
— Не исключено, — говорю.
— В женщине главное не это, — сказал
Фидель, — главное — характер. В смысле — положительные качества.. У меня
была одна чувиха в Сыктывкаре, так я ей цветы дарил. Незабудки, розы, хризантемы
всяческие...
— Врешь, — сказал я.
— Вру, — согласился Фидель, — только
дело же не этом. Дело в принципе... Ты в ночь заступаешь?
— Ну.
— В шестом бараке зеки что-то химичат.
Сам опер предупреждал.
— А что конкретно?
— Не знаю, ты его спроси. Какую-то поганку
заворачивают. Или просто волынят...
— Хорошо бы выяснить.
— Опера спроси...
Мы прошли через казарменный двор. Новобранцы
занимались строевой подготовкой. Командовал ими сержант Мелешко. Завидев
нас, он живо переменил тон.
— Что, Парамонов, — заорал сержант,
— яйца мешают?!.
Отец Парамонова был литературоведом.
Маршировать его сын не умел. Гимнастерку называл сорочкой. Автомат — ружьем.
Кроме того — писал стихи. С каждым днем они звучали все похабнее...
Мы прошли вдоль уборной с распахнутой
дверью. Оказались на питомнике. Просторные вольеры были ограждены железными
сетками. Там бесновались злобные караульные собаки. Лохматая Альма от ярости
грызла собственный хвост. Ее шерсть была в крови...
Пахапиля не было. Инструктор Воликов
что-то мастерил за столом. Перед ним стоял репродуктор. Задняя стенка была
отвинчена. Я почувствовал острый запах канифоли.
Завидев нас, инструктор выключил паяльник.
— Хорошо у тебя, — сказал Фидель, —
начальство редко заглядывает.
Мы оглядели бревенчатые стены. Небрежно
убранную постель. Цветные фотоснимки над столом. Таблицу футбольного чемпионата,
гитару, инструкцию по дрессировке собак...
— Попрут меня отсюдова, — заметил Воликов,
— собаки буквально рехнулись. Выставляю Альму на блокпост. Зек идет вдоль
забора — она хвостом машет. А на солдат — бросается. Совсем одичала. Даже
меня не признает. Кормлю ее, падлу, через специальную амбразуру.
— Вот бы оказаться на ее месте, — сказал
Фидель, — да капитану Токарю горло перегрызть. А что, ей ведь трибунал
не страшен...
— Если желаете, я щенков покажу, — сказал
Воликов, натягивая брюки.
Мы, нагнувшись, прошли в специальный
чулан. Там лежала на боку рыжеватая сука Мамуля. Она встревоженно подняла
голову. Рядом, уткнувшись ей в брюхо, копошились щенята.
Не трогай, — сказал Воликов Фиделю.
Он стал брать щенков и передавать нам.
У них были розовые животы. Тонкие лапы дрожали.
Фидель поднес одного из них к лицу.
Щенок лизнул его. Фидель засмеялся и покраснел.
Мамуля беспокойно оглядывала нас и пошевеливала
хвостом.
Несколько секунд все стояли молча. Затем
Фидель воздел руки, как джазовый певец Челентано на обложке грампластинки
"Супрафон". Затем он покрыл матом всех семерых щенков. Суку Мамулю. Ротное
начальство. Лично капитана Токаря. Местный климат. Инструкцию надзорсостава.
И предстоящий традиционный лыжный кросс.
— Надо за бутылкой идти, — сказал Беликов.
Как будто увидел где-то соответствующий знак.
— Нельзя, — сказал я, — мне вечером
заступать.
— В шестом поганка начинается, слыхал?
— А что конкретно?
— Не знаю. Опер инструктировал.
— Пойди ты к Явшицу, — сказал Фидель,
мол... Кашляю... В желудке рези...
— Я был. Он меня выставил.
— Явшиц совсем одичал, — заметил Воликов,
поглаживая Мамулю, — абсолютно... Прихожу как-то раз. Глотать, мол, больно.
А он и отвечает: "Вы бы поменьше глотали, ефрейтор!.." Намекает, козел,
что я пью. Небось сам дует шнапс в одиночку.
— Не похоже, — сказал я, — дед в исключительной
форме. Кирным его не видели.
— Поддает, поддает, — вмешался Фидель,
— у докторов навалом спирта. Почему бы и не выпить?..
— Вообще-то да, — говорю.
— Я слыхал, он Максима Горького загубил,
еще когда был врагом народа. А в шестидесятом ему помиловка вышла... Леа...
реали... реалибитировали его. А доктор — обиделся: "Куда же вы глядели,
пока я срок тянул?!." Так и остался на Севере.
— Их послушать, — рассердился Воликов,
— каждый сидит ни за что. А шпионов я вообще не обожаю. И врагов народа
тоже.
— Ты их видел? — спрашиваю.
— Тут попался мне один еврей, завбаней.
Сидит за развращение малолетних.
— Какой же это враг народа?
— А что, по-твоему, —друг?
Воликов ушел помочиться. Через минуту
вернулся говорит:
— Альма совсем одичала, начисто. Лает
на меня, как будто я чужой. Я раз не выдержал, подошел и тоже — как залаю.
Напугал ее до смерти...
— На ее месте, — сказал Фидель, — я
бы всем, и цирикам и зекам, горло перегрыз...
— Нам-то за что? — поинтересовался Воликов.
— А за все, — ответил Фидель.
Мы помолчали. Было слышно, как в чулане
пищат щенки.
— Ладно, — сказал Воликов, — так уж
и быть.
Он достал из-под матраса бутылку вермута
с зеленой этикеткой.
— Вот. От себя же и запрятал... И сразу
нашел.
Вермут был запечатан сургучом. Фидель
не захотел возиться, ударил горлышком о край плиты.
Мы выпили из одной кружки. Воликов достал
болгарские сигареты.
— Ого, — сказал Фидель, — вот что значит
жить без начальства. Все у тебя есть — шнапс и курево. А один инструктор
на Весляне, говорят, даже триппер подхватил...
За окном сержант Мелешко подвел взвод
к уборной. Последовала команда:
— Оправиться!
Все остались снаружи. Расположились
вокруг дощатой будки. Через минуту снег покрылся вензелями. Тут же возникло
импровизированное соревнование на дальность. Насколько можно было видеть,
победил Якимович из Гомеля...
Белый дым вертикально поднимался над
крышей гарнизона. Застиранный флаг уныло повис. Дощатые стены казались
особенно неподвижными. Так может быть неподвижна лодочная пристань возле
стремительной горной реки. Или полустанок, на котором экспресс лишь слегка
тормозит, а затем мчится дальше.
Дневальные в телогрейках расчищали снег
около крыльца широкими фанерными лопатами. Деревянные ручки лопат блестели
на солнце. Зеленый грузовик с брезентовым фургоном остановился у дверей
армейской кухни...
— Боб, ты к зекам хорошо относишься?
— спросил Фидель, допивая вино.
— По-разному, — сказал я.
—А я,— сказал Воликов, — прямо кончаю,
глядя на зеков.
— А я, — говорит Фидель, — запутался
совсем...
— Ладно, — говорю, — мне на дежурство
пора...
.Я зашел в казарму, надел полушубок
и разыскал лейтенанта Хуриева. Он должен был меня проинструктировать.
— Иди, — сказал Хуриев, — будь осторожен!
Лагерные ворота были распахнуты. К ним
подъезжали автозаки с лесоповала. Заключенные сидели в кузове на полу.
Солдаты разместились за барьерами возле кабин. Когда машина тормозила,
они спрыгивали первыми, затем быстро отходили, держа автоматы наперевес.
После этого спрыгивали заключенные и шли к воротам.
— Первая шеренга — марш! — командовал
Тваури.
В правой руке он держал брезентовый
мешочек с карточками. Там были указаны фамилии заключенных, особые приметы
и сроки.
— Вторая шеренга — марш!
Урки шли, распахнув ватные бушлаты,
не замечая хрипящих собак.
Грузовики развернулись и осветили фарами
ворота.
Когда бригады прошли, я отворил двери
вахты. Контролер Белота в расстегнутой гимнастерке сидел за пультом. Он
выдвинул штырь. Я оказался за решеткой в узком проходном коридоре.
— Курить есть? — спросил Белота.
Я бросил в желоб для ксив несколько
помятых сигарет. Штырь вернулся на прежнее место. Контролер пропустил меня
в зону...
На Севере вообще темнеет рано. А в зоне
— особенно.
Я прошел вдоль стен барака. Достиг ворот,
под которыми тускло блестели рельсы узкоколейки. Заглянул на КПП, где сверхсрочники
играли в буру.
Я поздоровался — мне не ответили. Только
ленинградец Игнатьев возбужденно крикнул:
— Боб! Я сегодня торчу!..
Измятые карты беззвучно падали на отполированный
локтями стол.
Я докурил сигарету, положил окурок в
консервную банку. Затем, распахнув дверь, убедился, что окончательно стемнело.
Нужно было идти.
Шестой барак находился справа от главной
аллеи, под вышкой. Там по оперативным сведениям готовилась поганка.
Я мог бы и не заходить в шестой барак.
И все-таки — пошел. Мне хотелось покончить со всем этим до наступления
абсолютной тишины.
В углах шестого барака прятались тени.
Тусклая лампочка освещала грубый стол и двухъярусные нары.
Я оглядел барак. Все это было мне знакомо.
Жизнь с откинутыми покровами. Простой и однозначный смысл вещей... Параша
у входа, картинки из "Огонька " на закопченных балках... Все это не пугало
меня. Лишь внушало жалость и отвращение...
Бугор Агешин сидел, расставив локти.
Лицо его выражало злое нетерпение. Остальные разошлись по углам.
Все смотрели на меня. Я почувствовал
себя неловко и говорю Агешину:
— Ну-ка выйдем.
Тот встал, огляделся, как бы давая последние
распоряжения. Затем направился к двери. Мы остановились на крыльце.
— Зека Агешин слушает, — произнес бугор.
В его манерах была смесь почтения и
хамства, которая типична для заключенных особого режима. Где под лицемерным
"начальник" явственно слышится — "кирпич"...
— Слушаю вас, гражданин начальник!
— Что вы там затеваете, бугор? — спросил
я.
Мне не стоило задавать этот вопрос.
Я нарушал, таким образом, правила игры. По условиям этой игры надзиратель
обо всем догадывается сам. И принимает меры, если он на это способен...
— Обижаешь, начальник, — сказал бугор.
— Что я, не вижу...
Тут я вспомнил краснорожего официанта
из модернизированной пивной на Лиговке. Однажды я решил уличить его в жульничестве
и достал авторучку. Пока я считал, официант невозмутимо глядел мне в лицо.
Да еще повторял фамильярным тоном:
"Считай, считай... Все равно я тебя
обсчитаю..."
— Если что-нибудь случится, ты из бригадиров
полетишь!
— За что, начальник? — выговорил Агешин
с притворным испугом.
Мне захотелось дать ему в рожу...
— Ладно, — сказал я и ушел.
Засыпанные снегом красноватые окошки
шестого барака остались позади.
Я решил зайти к оперу Борташевичу. Это
был единственный офицер, говоривший мне "ты". Я разыскал его в штрафном
изоляторе.
— Гуд ивнинг, — сказал Борташевич, —
хорошо, что ты появился. Я тут философский вопрос решаю — отчего люди пьют?
Допустим, раньше говорили — пережиток капитализма в сознании людей... Тень
прошлого... А главное — влияние Запада. Хотя поддаем мы исключительно на
Востоке. Но это еще ладно. Ты мне вот что объясни. Когда-то я жил в деревне.
У моего соседа был козел. Такого алкаша я в жизни не припомню. Хоть красное,
хоть белое — только наливай. И Запад тут не влияет. И прошлого вроде бы
нет У козла. Он же не старый большевик... Я и подумал, не заключена ли
в алкоголе таинственная сила. Наподобие той, что образуется при распаде
атомного ядра. Так нельзя ли эту силу использовать в мирных целях? Например,
чтобы я из армии раньше срока демобилизовался?..
В изоляторе — решетки на окнах. В углу
плита. На плите — кипящий чайник, обложенный сухарями. За стеной две одиночные
камеры. Их называют — "стаканы ". Сейчас они пустуют...
— Женя, — сказал я, — в шестом бараке,
кажется, поганка назревает. Это правда?
— Да, я как раз хотел тебя предупредить.
— Чего же не предупредил?
— Философские мысли нахлынули. Отвлекся.
Пардон...
— А в чем там дело?
— Хотят одному стукачу темную устроить.
Онучину Ивану.
— Это же твой любимый кадр.
— Уже не мой. Я этого типа использовать
не в состоянии. Форменный псих. На политике тронулся Что его ни спроси,
он все за политику. Этот, говорит, принизил великий образ. У этого — нездоровые
тенденции. Будто единственный, кто за советскую власть, — гражданин Онучин.
Тьфу, создает же природа...
— А по делу он кто?
— Баклан, естественно. Я тебе вот что
скажу. Сиди-ка ты на вахте. Или у меня. А в шестой барак не суйся.
— Так они же его замочат! Каждый сунет
по разу, чтобы все молчали...
— Тебе что, Онучина жалко? Учти, он
и на тебя капал. В смысле, что ты контингенту потакаешь.
— Не в Онучине дело. Надо по закону.
— Ты вообще излишне с зеками церемонишься.
— Просто мне кажется, что я такой же.
Да и ты, Женя...
— Во дает, — сказал Борташевич, нагибаясь
к осколку зеркала, — во дает! Будка у меня действительно штрафная, но перед
законом я относительно чист.
— Про тебя не знаю. А я до ВОХРы пил,
хулиганил, с фарцовщиками был знаком. Один раз девушку ударил на Перинной
линии. У нее очки разбились...
— Ну, хорошо, а я-то при чем?
— Разве у тебя внутри не сидит грабитель
и аферист? Разве ты мысленно не убил, не ограбил? Или, как минимум, не
изнасиловал?
— Еще бы, сотни раз. А может — тысячи.
Мысленно да. Так я же воли не даю моим страстям.
— А почему? Боишься?
Борташевич вскочил:
— Боюсь? Вот уж нет! И ты прекрасно
это знаешь.
— Ты себя боишься.
— Я не волк. Я живу среди людей...
— Ладно, — сказал я, — успокойся.
Опер шагнул к плите.
— Гляди-ка, — вдруг сказал он, — у тебя
это бывает? Когда чайник закипит, страшно хочется пальцем заткнуть это
дело. Я как-то раз не выдержал. Чуть без пальца не остался...
— Ладно, — говорю, — пойду.
— Не торопись. Хочешь пива? У меня пиво
есть. И банка консервов.
— Нет. Пойду.
— Ты даешь, — поразился Борташевич,
— совсем народ одичал. Пива не желает.
Он стоял на пороге и кричал мне вслед:
— Алиханов, не ищи приключений!..
Из ШИЗО я направился в самый опасный
угол лагерной зоны. Туда, где между стеной барака и забором пролегала
освещенная колея. Так называемый — простреливаемый коридор.
Инструктируя служебный наряд, разводящий
требовал к этому участку особого внимания. Именно поэтому тут всегда было
спокойно.
Я прошел вдоль барака, издали крикнув
часовому:
— Здорово, Рудольф.
Мне хотелось предотвратить стандартный
окрик: "Кто идет?!" От этого у меня всегда портилось настроение.
— Стой! Кто идет?! — выкрикнул часовой,
щелкая затвором.
Я молча шел прямо на часового.
— Вай, Борис?! — сказал Рудольф Хедоян.
— чуть тебя стреляла!..
— Ладно, — говорю, — тут все нормально?
— Как нормально, — закричал Рудольф,
— нормально?! Людей не хватаэт. Надзиратэл вишка стоит! и Говоришь, нормально?
Нэт нормально! Холод — нормально?! Э!..
Южане ВОХРы страшно мучились от холода.
Иные разводили прямо на вышках маленькие костры. И когда-то офицеры глядели
на это сквозь пальцы. Затем Резо Цховребашвили сжег до основания четвертый
караульный пост.
После этого было специальное указание
из штаба части запрещающее даже курить на вышке. Самого Резо таскали к
подполковнику Гречневу. Тот начал было орать. Но Цховребашвили жестом остановил
его и миролюбиво произнес:
"Ставлю коньяк!"
После чего Гречнев расхохотался и выгнал
солдата без наказания...
— Вот так климат, — сказал Рудольф,
— похуже, чем на Луне.
— Ты на Луне был? — спрашиваю.
— Я и в отпуске-то не был, — сказал
Рудольф.
— Ладно, — говорю, — потерпи еще минут
сорок...
Я стоял под вышкой несколько минут.
Затем направился к шестому бараку. Я шел мимо косых скамеек. Мимо покоробившихся
щитов с фотографиями ударников труда. Мимо водокачки, черный снег у дверей
которой был истоптан.
Затем свернул к пожарной доске, чтобы
убедиться, все ли инструменты на месте.
Начнись пожар, и заключенные вряд ли
будут тушить его. Ведь любой инцидент, даже стихийное бедствие, приятно
разнообразит жизнь. Но аварийный стенд был в режиме, и зеки этим пользовались.
Когда в бараке начиналась резня, дерущиеся мчались к пожарному стенду.
Здесь они могли схватить лопату, чугунные щипцы или топор...
Из шестого барака донеслись приглушенные
крики. На секунду я ощутил тошнотворный холодок под ложечкой. Я вспомнил,
какие огромные пространства у меня за спиной. А впереди — один шестой барак,
где мечутся крики. Я подумал, что надо уйти. Уйти и через минуту оказаться
на вахте с картежниками. Но в эту секунду я уже распахивал дверь барака.
Онучина я увидел сразу. Он стоял в углу,
прикрывшись табуреткой. Ножки ее зловеще торчали вперед.
Онучин был известным стукачом. А также
— единственным человеком в зоне, который носил бороду. Так он снялся, будучи
подследственным. Затем снимок перекочевал в дело. В дальнейшем борода стала
его особой приметой, как и размашистая татуировка:
"Не забуду мать родную и погибшему отцу!"
Онучин был избит. Борода его стала красной,
а пятна на телогрейке — черными. Он размахивал табуреткой и все повторял:
— За что вы меня убиваете? Ни за что
вы меня убиваете! Гадом быть, ни за что!..
Когда я вошел... Когда я вбежал, заключенные
повернулись и тотчас же снова окружили его. Кто-то из задних рядов, может
быть — Чалый, с ножом пробивался вперед. Узкое белое лезвие я увидел сразу.
На эту крошечную железку падал весь свет барака...
— Назад! — крикнул я, хватая Чалого
за рукав.
— От греха, начальник, — сдавленно выговорил
зек.
Я ухватил Чалого за телогрейку и сдернул
ее до локтей.
Потом ударил его сапогом в живот. Через
секунду я бы возле Онучина. Помню, расстегнул манжеты гимнастерки.
Заключенные, окружив нас, ждали сигнала
или хотя бы резкого движения. Что-то безликое и страшное двигалось на меня.
С грохотом распахнулась дверь. На порог
шагнул Борташевич в ослепительных яловых сапогах. Меня он заметил сразу
и, понижая голос, выговорил:
— Через одного... Слово коммуниста...
Без суда...
Угрожавшее мне чудовище распалось на
десяток темных фигур. Я взял Онучина за плечо. Мы втроем ушли из барака.
За спиной раздался голос бугра:
— Эх, бакланье вы помойное! Разве с
вами дело замочишь?!..
Мы шли вдоль забора под охраной часовых.
Когда достигли вахты, Борташевич сказал Онучину:
— Иди в ШИЗО. Жди, когда переведут в
другой лагерь.
Онучин тронул меня за рукав. Его рот
был горестно искривлен.
— Нет в жизни правды, — сказал он.
— Иди, — говорю...
Рано утром я постучался к доктору. В
его кабинете было просторно и чисто.
— На что жалуетесь? — выговорил он,
поднимая близорукие глаза.
Затем быстро встал и подошел ко мне:
— Ну что же вы плачете? Позвольте, я
хоть дверь запру...
30 мая 1982 года. Нью-Йорк
Я вспоминаю случай под Иоссером.
В двух километрах от лагеря была
расположена сельская школа. В школе работала учительница, тощая женщина
с металлическими зубами и бельмом на глазу.
Из зоны было видно школьное крыльцо.
В этой же зоне содержался "беспредел"
Макеев. Это был истаскавшийся по этапам шестидесятилетний мужчина.
В результате зек полюбил школьную
учительницу. Разглядеть черты ее лица он не мог. Более того, он и возраста
ее не знал. Было ясно, что это — женщина, и все. Некто в старомодном платье.
Звали ее Изольда Щукина. Хотя
Макеев и этого не знал.
Собственно, он ее даже не видел.
Он знал, что это — женщина, и различал цвета ее платьев. Платьев было два
— зеленое и коричневое.
Рано утром Макеев залезал на крышу
барака. Через некоторое время громогласно объявлял:
— Коричневое!..
Это значило, что Изольда прошла
в уборную...
Я не помню, чтобы заключенные
смеялись над Макеевым. Напротив, его чувство вызывало глубокий интерес.
Макеев изобразил на стене барака
— ромашку. Она была величиной с паровозное колесо. Каждый вечер Макеев
стирал тряпкой один из лепестков...
Догадывалась ли обо всем этом
Изольда Щукина — неизвестно. Скорее всего — догадывалась. Она подолгу стояла
на крыльце и часто ходила в уборную.
Их встреча произошла лишь однажды.
Макеев работал в производственной зоне. Раз его вывели на отдельную точку.
Изольда шла через поселок. Их маршруты пересеклись около водонапорной башни.
Вся колонна замедлила шаг. Конвоиры
было забеспокоились, но зеки объяснили им, в чем дело.
Изольда шла вдоль замершей колонны.
Ее металлические зубы сверкали. Фетровые боты утопали в грязи.
Макеев кинул ей из рядов небольшой
бумажный пакет. Изольда подняла его, развернула. Там лежал самодельный
пластмассовый мундштук.
Женщина решительно шагнула в сторону
начальника конвоя. Она сняла короткий вязаный шарф и протянула ефрейтору
Бойко. Тот передал его одному из зеков. Огненный лоскут следовал по рядам,
такой яркий на фоне изношенной лагерной дряни. Пока Макеев не обмотал им
свою тощую шею.
Заключенные пошли. Кто-то из рядов
затянул:
...Где ж ты, падла, любовь свою
крутишь,
С кем дымишь папироской одной!..
Но его оборвали. Момент побуждал
к тишине.
Макеев оборачивался и размахивал
шарфом до самой зоны. Сидеть ему оставалось четырнадцать лет...
Выступающие из мрака жилые корпуса окружены
трех метровым забором. Вдоль следового коридора разбросаны ловушки из тончайшей
железной проволоки. Чуть дальше установлены сигнальные приборы типа "Янтарь".
По углам возвышаются четыре караульных
будки. Они формируют воображаемый замкнутый прямоугольник.
Четыре прожектора освещают тропу наряда.
Часовым видны гнилые доски и простреливаемый коридор между жилой и хозяйственной
зоной.
К шести вечера подъезжает автозак с
решетками на окнах. Начальник конвоя снимает замки. Заключенные молча идут
по трапу, в серых робах и громыхающих башмаках.
Появляется офицер в зеленом дождевике
с капюшоном.
Его голос звучит как сигнальный прибор:
— Бригада поступает в распоряжение конвоя.
Шаг в сторону — побег. Конвой применяет оружие — незамедлительно!..
Холод и пыль. Кое-где побелела земля
от мороза. Сухая порыжевшая травка жмется к бугру.
Зеки, негромко переговариваясь, строятся
в колонны.
Инструкторы придерживают рвущихся собак.
— Первая колонна — марш!
Офицеру за пятьдесят. Двадцать лет проработал
в охране. На погонах — четыре маленьких звездочки.
Есть у него гражданский импортный пиджак.
Все остальное — казенная зелень.
Солдаты в неуклюжих тулупах идут на
посты. Волокут за собой американские телефоны.
Подменный остается на вахте. Скоро ему
приснится дом,
Бронюта Гробатавичус в зеленой кофте...
Он увидит блестя щую под солнцем реку. Свой грузовик на пыльной дороге.
Орла над рощей. Лодку, беззвучно раздвигающую
камыши.
Затем в уютный, теплый мир его сновидений
проникнет окрик, нарочито грубый и резкий, как жесть:
— Смена, подъем!
И снова — шесть часов на ветру. Если
бы вы знали, друзья, что это такое!..
За эти часы ты припомнишь всю свою жизнь.
Простишь все обиды. Объездишь весь мир.
Ты будешь иметь сотни женщин. Пить шампанское
из хрустальных бокалов. Драться и ездить в такси...
И снова — шесть часов на ветру...
Ночью передали из зоны:
"В обрубке прижмурился зек".
Дело было так. Стропаль неверно повел
рычаги. Над головами косо рванулся блок. Скользнула чугунная цепь. И вот
— корпусом двухосного парогенератора АГ-430...
Нет, куском железа в полторы тонны...
В общем, зеку Бутырину, который, нагнувшись, притирал швы, раскроило череп.
Теперь он лежал под намокшим брезентом.
Его ступни были неестественно вывернуты. Тело занимало небольшое пространство
от станины до мусорного бака.
Он сделался как будто меньше ростом.
Его лицо было таким же неживым, как мятая, валявшаяся поодаль рукавица.
Или — отполированный до блеска черенок лопаты. Или — жестянка с тавотом...
Эта смерть была лишена таинственности.
Она наводила тоску. Над пропитанным кровью брезентом вибрировали мухи.
Бутырин часто видел смерть, избегал
ее десятки раз.
Это был потомственный скокарь, наркоман,
волынщик и гомосек. Да еще — истерик, опрокидывавший залпом в кабинете
следователя банку чернил.
С ног до головы его покрывала татуировка.
Зубы потемнели от чифира. Исколотое морфином тело отказывалось реагировать
на боль.
Он мог подохнуть давно. Например, в
Сормове, где канавенские ребята избили его велосипедными цепями. Они кинули
его под электричку, но Бутырин чудом уполз. Зек часто вспоминал ревущий
огненный треугольник. И то, как песок скрипел на зубах...
Он мог подохнуть в Гори, когда изматерил
на рынке толпу южан...
Он мог подохнуть в Синдоре. Конвоиры
загнали тогда этап в ледяную речку. Но урки запели, пошли. И рябой ефрейтор
Петров начал стрелять...
Он мог подохнуть в Ухте, идя на рывок
с лесобиржи...
Он мог подохнуть в койненском изоляторе,
где лагерные масти резались сапожными ножами...
И вот теперь он лежит под случайным
брезентом. Опер пытается выйти на связь. Он выкрикивает, прижимая ко рту
мембрану:
— Я — Лютик! Я — Лютик! Прием! Вас не
слышу! Пришлите дополнительный конвой и врача...
И офицер закурит, а потом снова, надсаживаясь,
будет кричать:
— Я — Лютик! Прием! Заключенные возбуждены!
Ситуация критическая! Пришлите дополнительный конвой и врача...
Скоро придет воронок. Труп погрузят
в машину. Один из нас доставит его под автоматом в тюремную больницу. Ведь
мертвых зеков тоже положено охранять.
А через месяц замполит Хуриев напишет
Инессе Владимировне Бутыриной, единственной родственнице, двоюродной тетке,
письмо. И в нем будет сказано:
"Ваш сын, Бутырин Григорий Тихонович,
уверенно шел к исправлению. Он скончался на трудовом посту..."
7 июня 1982 года. Нью-Йорк
Напомню вам, что лагерь является
типично советским учреждением. И не только по своему административно-хозяйственному
устройству. Не только по внедряемой сверху идеологии. Не только в силу
привычных формальностей.
Лагерь учреждение советское —
по духу. По внутренней сути.
Рядовой уголовник, как правило,
вполне лояльный советский гражданин. То есть он, конечно, недоволен. Спиртное
подорожало и так далее. Но основы — священны. И Ленин — вне критики.
В этом смысле чрезвычайно показательно
лагерное творчество. В лагере без нажима и принуждения торжествует метод
социалистического реализма.
Задумывались ли вы о том, что
социалистическое искусство приближается к магии. Что оно напоминает ритуальную
и культовую живопись древних.
Рисуешь на скале бизона — получаешь
вечером жаркое.
Так же рассуждают чиновники от
социалистического искусства. Если изобразить нечто положительное, то всем
будет хорошо. А если отрицательное, то наоборот. Если живописать стахановский
подвиг, то все будут хорошо работать. И так далее.
Вспомните подземные столичные
мозаики. Овощи, фрукты, домашняя птица... Грузины, литовцы, армяне... Крупный
и мелкий рогатый скот... Ведь это те же бизоны!..
В лагере — такая же история.
Возьмите лагерную живопись. Если
это пейзаж, то немыслимо знойной, андалузской расцветки. Если натюрморт,
то преисполненный калорий.
Лагерные портреты необычайно комплиментарны.
На воле так изображают крупных
партийных деятелей.
И никакого модернизма. Чем ближе
к фотографии, тем лучше. Вряд ли тут преуспели бы Модильяни с Гогеном...
Возьмите лагерные песни. Вот один
из наиболее распространенных песенных сюжетов. Мать-одиночка с ребенком.
Папаша в бегах. Ребенок становится вором. (А если дочь, то проституткой.)
Дальше — суд. Прокурор, опуская глаза, требует высшей меры наказания. Подсудимый
кончает жизнь самоубийством. У могильной ограды. часами рыдает прокурор.
Это, как вы уже догадались, — незадачливый отец покойного.
Разумеется, все это чушь, лишенная
минимального жизненного правдоподобия. Прокурор вообще не может осудить
собственную родню. Такого не позволяют советские законы. И лагерники прекрасно
это знают. Но продолжают вовсю эксплуатировать лживый, дурацкий сюжет...
Возьмите лагерные мифы. Наиболее
распространенным сюжетом является успешный массовый побег. Как правило,
через Белое море — в Соединенные Штаты.
Вы услышите десятки версий с мельчайшими
бытовыми подробностями. С детальным описанием маршрута. С клятвенными заверениями,
что все так и было.
И организатором побега непременно
будет доблестный чекист. Бывший полковник ГПУ или НКВД. Осужденный Хрущевым
сподвижник Берии или Ягоды.
Ну, чего их, спрашивается, тянет
к этим мерзавцам?! А тянет их оттого, что это — знакомые, привычные, советские
герои. Персонажи Юлиана Семенова и братьев Вайнеров...
Емельян Пугачев, говорят, опирался
на беглых каторжников. Теперешние каторжники бунтовать не собираются. Случись
какая-нибудь заваруха, и пойдут они до ближайшего винного магазина...
Ну, хорошо. Теперь — о деле. Пришлите
мне, если не трудно, образцы ваших шрифтов и два каталога.
Будете в Нью-Йорке — увидимся.
Привет же не, матушке и дочкам. Наша Катя ужасно сердитая — переходный
возраст...
Завтра возле моего дома открывается
новое русское кафе. Рано утром, будучи местной знаменитостью, иду поздравлять
владельцев...
В октябре меня дисквалифицировали за
грубость, и я был лишен всех привилегий спортсмена. Соответственно, оказался
в караульном батальоне на правах рядового. Ночью запах портянок, обернутых
вокруг голенищ, лишал меня сна. В заключение ефрейтор Блиндяк крикнул мне
перед строем:
— Я СГНИЮ тебя, падла, увидишь — СГНИЮ!..
В этой ситуации должность ротного писаря
была неслыханной удачей. По-видимому, сказалось мое незаконченное высшее
образование. У меня было два курса ЛГУ. Думаю, я был самым образованным
человеком в республике Коми...
Рано утром я подметал штабное крыльцо.
Заснеженный плац был исполосован мощными гвардейскими струями. Я выходил
на дорогу и там поджидал капитана.
Завидев его, я ускорял шаги, резко подносил
ладонь к фуражке и бездумным, механическим голосом восклицал:
— Здравия желаю!
Затем, роняя ладонь, как будто вконец
обессилев, почтительно-фамильярным тоном спрашивал:
— Как спали, дядя Леня?
И немедленно замолкал, как будто стесняясь
охватившей меня душевной теплоты...
Жизнь капитана Токаря состояла из мужества
и пьянства. Капитан, спотыкаясь, брел узкой полоской земли между этими
двумя океанами.
Короче, жизнь его — не задалась. Жена
в Москве и под другой фамилией танцует на эстраде. А сын — жокей. Недавно
прислал свою фотографию: лошадь, ведро и какие-то доски...
Воплощением мужества для капитана стали:
опрятность, резкий голос и умение пить, не закусывая...
Токарь снимает шинель. На шее его, как
дурное предзнаменование, белеет узкая линия воротничка.
— Где Барковец? — спрашивает он. — Зовите!
Ефрейтор Барковец появляется в дверях.
Он шалит ногой, плечом, закатывает глаза. То есть просто, грубо и совершенно
неубедительно разыгрывает чувство вины.
Токарь согнутым пальцем расправляет
диагоналевую офицерскую гимнастерку.
— Ефрейтор Барковец, — говорит он, —
стыдитесь! Кто послал вчера на три буквы лейтенанта Хуриева?
Товарищ капитан...
— Молчать!
— Если бы вы там присутствовали...
— Приказываю — молчать!
— Вы бы убедились...
— Я вас арестую, Барковец!
— Что я его справедливо... одернул...
— Трое суток ареста, — говорит капитан,
— выходит по числу букв...
Когда ефрейтор удаляется, Токарь говорит
мне:
— А ведь москвичи люди с юмором.
— Это верно.
— Ты бывал в Москве?
— Дважды, на сборах.
— А на скачках бывал?
— Никогда.
— Интересно, что за люди — жокеи?
— Вот не знаю.
— Физкультурники?
— Что-то вроде...
Токарь приходит домой. К его ногам, приседая
от восторга, бросается черный спаниель.
— Брошка, Брошенька, — шепчет Токарь,
роняя в снег ломти докторской колбасы.
Дома — теплая водка, последние известия.
В ящике стола — пистолет...
— Брошка, Брошенька, единственный друг...
Аникин демобилизовался... Остальные в люди повыходили. Идиот Пантелеев
в Генштабе... Райзман — доцент, квартиру получил... Райзман и в Майданеке
получил бы отдельную квартиру... Брошка, что же это мы с тобой?.. Валентина,
сука, не пишет... Митя лошадь прислал...
Холод и тьма за окном. Избу обступили
сугробы. Ни звука, ни шороха, выпил и жди. А сколько ждать — неизвестно.
Если бы собаки залаяли или лампа погасла... Тогда можно снова налить...
Так он и засыпает — портупея, диагоналевая
гимнастерка, сапоги... И лампочка горит до самого утра...
А утром я снова иду мимо оскверненного
плаца к воротам. Резко вскидываю ладонь к фуражке. Потом вяло роняю ее
и голосом, дрогнувшим от нежного Чувства, спрашиваю:
— Как ночь, дядя Леня?..
Когда-то я был перспективным армейским
тяжеловесом. Одновременно — спортивным инструктором при штабе части. До
штаба — надзирателем производственной зоны. А всему этому предшествовала
давняя беседа с чиновников райвоенкомата.
— Ты парень образованный, — сказал комиссар,
— Мог бы на сержанта выучиться. В ракетные части попасть... А охрану идут,
кому уж терять нечего...
— Мне как раз нечего терять.
Комиссар взглянул на меня с подозрением:
— В каком это смысле?
— Из университета выгнали, с женой развелся...
Мне хотелось быть откровенным и простым.
Доводы не убедили комиссара.
— Может, ты чего-нибудь это самое...
Чего-нибудь слямзил? И смыться норовишь?
— Да, — говорю, — у нищего — жестянку
с медяками.
— Не понял, — вздрогнул комиссар.
— Это так, вроде шутки.
— Что в ней смешного?
— Ничего, — говорю, — извините.
— Слушай, парень! Я тебе по-дружески
скажу, ВОХРА — это ад!
Тогда я ответил, что ад — это мы сами.
Просто этого не замечаем.
— А по-моему, — сказал комиссар, — ты
чересчур умничаешь.
Отчаявшись разобраться, комиссар начал
заполнять мои документы.
Через месяц я оказался в школе надзорсостава
под Ропчей. А еще через месяц инспектор рукопашного боя Торопцев, прощаясь,
говорил:
— Запомни, можно спастись от ножа. Можно
блокировать топор. Можно отобрать пистолет. Можно все! Но если можно убежать
— беги! Беги, сынок, и не оглядывайся...
В моем кармане лежала инструкция. Четвертый
пункт гласил:
"Если надзиратель в безвыходном положении,
он дает команду часовому —
"СТРЕЛЯЙТЕ В НАПРАВЛЕНИИ МЕНЯ..."
Штрафной изолятор, ночь. За стеной, позвякивая
наручниками, бродит Анаги. Опер Борташевич говорит мне:
— Конечно, всякое бывает. Люди нервные,
эгоцентричны до предела... Например? Раз мне голову на лесоповале хотели
отпилить бензопилой "Дружба ".
— И что? — спросил я.
— Ну, что... Бензопилу отобрал и морду
набил.
— Ясно.
— С топором была история на пересылке.
— И что? Чем кончилось?
— Отнял топор, дал по роже...
— Понятно.
— Один чифирной меня с ножом прихватывал.
— Нож отобрали и в морду?
Борташевич внимательно посмотрел на
меня, затем расстегнул гимнастерку. Я увидел маленький, белый, леденящий
душу шрам...
Ночью я спешу из штаба в казарму. И самый
короткий путь — через зону. Я шагаю мимо одинаковых бараков, мимо желтых
лампочек в проволочных сетках. Я спешу, ощущая родство тишины и мороза.
Иногда распахиваются двери бараков.
Из натопленного жилья с облаком белого пара выскакивает зек. Он мочится,
закуривает, кричит часовому на вышке:
— Але, начальник! Кто из нас в тюрьме?
Ты или я?!
Часовой лениво матерится, кутаясь в
тулуп...
Из южного барака раздается крик. Я бегу,
на ходу расстегивая манжеты. На досках лежит в сапогах рецидивист Купцов,
орет и указывает пальцем. По стене движется таракан, черный и блестящий,
как гоночная автомашина.
— В чем дело? — спрашиваю я.
— Ой, боюсь, начальник! Кто его знает,
что у таракана на уме!..
— А вы шутник, — говорю я, — как зовут?
— Зимой — Кузьмой, а летом Филаретом.
— За что сидите?
— Улицу неверно перешел... С чужим баулом.
— Прости, начальник, — миролюбиво высказывается
бугор Агешин, — это юмор такой. Как говорится, дружеский шарж. Давай лучше
ужинать...
"Поем, — думаю я, — они ведь такие же
люди... А человек от природы... " И так далее...
Ели мясо, зажаренное в бараке на плите.
Потом курили. Кто-то взял гитару, сентиментальным голосом напевая:
...Выше голову, милый, я ждать не устану,"Милые, в общем-то, люди, — думал я, — хоть и бандиты, разумеется... Но ведь жизнь искалечила, среда заела..."
Моя совесть чиста, хоть одежда в пыли,
Надо мной раскаленный шатер Казахстана,
Бесконечная степь золотится вдали...
...Надо мной раскаленный шатер Казахстана,— Вот ты и скажи ему, — говорит Фидель.
Бесконечная степь золотится вдали,
И куда ни пойду, я тебя не застану,
О тебе рассказать не хотят ковыли...
Вечером капитан Токарь напился. Он буйствовал
в поселковом шалмане. Порвал фотографию лошади. Ругал последними словами
жену. Такими словами, которые давно уже значение потеряли. А ночью шел
куда-то мимо электростанции. И пытался, роняя спички, закурить на ветру...
Рано утром я вновь подметаю крыльцо.
Потом — мимо грязных сугробов — к воротам.
Я иду под луной, откровенной и резкой,
как заборная надпись. Жду капитана — стройного, тщательно выбритого, невозмутимого.
Прикладываю руку к виску. Затем роняю ее, как будто совершенно обессилев.
И наконец, учтивым, задорным, приязненным голосом спрашиваю:
— Ну как, дядя Леня?..
Прошло двадцать лет. Капитан Токарь жив. Я тоже. А где этот мир, полный ненависти и страха? Он-то куда подевался? И в чем причина моей тоски и стыда?..
11 июня 1982 года. Нью-Йорк
Этот большой кусок я переправил
через Ричарда Нэша. А ведь он почти что коммунист. Тем не менее занимается
нашими вздорными рукописями. Все дико запуталось на этом свете.
На КПП сидели трое. Опер Борташевич тасовал
измятые, лоснящиеся карты. Караульный Гусев пытался уснуть, не вынимая
изо рта зажженной сигареты. Я ждал, когда закипит обложенный сухарями чайник.
Борташевич вяло произнес:
— Ну, хорошо, возьмем, к примеру, баб.
Допустим, ты с ней по-хорошему: кино, бисквиты, разговоры... Цитируешь ей
Гоголя с Белинским... Какую-нибудь блядскую оперу посещаешь... Потом, естественно,
в койку. А мадам тебе в ответ: женись, паскуда! Сначала загс, а потом уж
низменные инстинкты... Инстинкты, видишь ли, ее не устраивают. А если для
меня это святое, что тогда?!..
— Опять-таки жиды, — добавил караульный.
— Чего — жиды? — не понял Борташевич.
— Жиды, говорю, повсюду. От Райкина
до Карла Маркса... Плодятся, как опята... К примеру, вендиспансер на Чебью.
Врачи — евреи, пациенты — русские. Это по-коммунистически?
Тут позвонили из канцелярии. Борташевич
поднял трубку и говорит:
— Тебя.
Я услышал голос капитана Токаря:
— Зайдите ко мне, да побыстрей.
— Товарищ капитан, — сказал я, уже,
между прочим, девятый час.
— А вы, — перебил меня капитан, — служите
Родине только до шести?!
— Для чего же тогда составляются графики?
Мне завтра утром на службу выходить.
— Завтра утром вы будете на Ропче. Есть
задание начальника штаба — доставить одного клиента с ропчинской пересылки.
Короче, жду...
—— Куда это тебя? — спросил Борташевич.
— Надо с Ропчи зека отконвоировать.
— На пересуд?
— Не знаю.
— По уставу нужно ездить вдвоем.
— А что в охране делается по уставу?
По уставу только на гауптвахту сажают.
Гусев приподнял брови:
— Кто видел, чтобы еврей сидел на гауптвахте?
— Дались тебе евреи, — сказал Борташевич,
— надоело.
Ты посмотри на русских. Взглянешь и
остолбенеешь.
— Не спорю, — откликнулся Гусев...
Неожиданно закипел чайник. Я переставил
его на кровельный лист возле сейфа.
— Ладно, пойду...
Борташевич вытащил карту, посмотрел
и говорит:
— Ого! Тебя ждет пиковая дама.
Затем добавил:
— Наручники возьми.
Я взял...
Я шел через зону, хотя мог бы обойти
ее по тропе нарядов. Вот уже год я специально хожу по зоне ночью. Все надеюсь
привыкнуть к ощущению страха. Проблема личной храбрости у нас стоит довольно
остро. Рекордсменами в этом деле считаются литовцы и татары.
Возле инструменталки я слегка замедлил
шаги. Тут по ночам собирались чифиристы.
Жестяную солдатскую кружку наполняли
водой. Высыпали туда пачку чаю. Затем опускали в кружку бритвенное лезвие
на длинной стальной проволоке. Конец ее забрасывали на провода высоковольтной
линии. Жидкость в кружке закипала через две секунды.
Бурый напиток действовал подобно алкоголю.
Люди начинали возбужденно жестикулировать, кричать и смеяться без повода.
Серьезных опасений чифиристы не внушали.
Серьезные опасения внушали те, которые могли зарезать и без чифиря...
Во мраке шевелились тени. Я подошел
ближе. Заключенные сидели на картофельных ящиках вокруг чифирбака. Завидев
меня, стихли.
— Присаживайся, начальник, — донеслось
из темноты, — самовар уже готов.
— Сидеть, — говорю, — это ваша забота.
— Грамотный, — ответил тот же голос.
— Далеко пойдет, — сказал второй.
— Не дальше вахты, — усмехнулся третий...
Все нормально, подумал я. Обычная смесь
дружелюбия и ненависти. А ведь сколько я перетаскал им чая, маргарина,
рыбных консервов...
Закурив, я обогнул шестой барак и вышел
к лагерной узкоколейке. Из темноты выплыло розовое окно канцелярии.
Я постучал. Мне отворил дневальный.
В руке он держал яблоко.
Из кабинета выглянул Токарь и говорит:
— Опять жуете на посту, Барковец?!
— Ничего подобного, товарищ капитан,
— возразил, отвернувшись, дневальный.
— Что я, не вижу?! Уши шевелятся...
Позавчера вообще уснули...
— Я не спал, товарищ капитан. Я думал.
Больше это: не повторится.
— А жаль, — неожиданно произнес Токарь
и добавил, обращаясь ко мне: — Входите.
Я вошел, доложил как положено.
— Отлично, — сказал капитан, затягивая
ремень, — все документы, можете ехать. Доставите сюда зека по фамилии
Гурин. Срок — одиннадцать лет. Пятая судимость. Человек в законе, будьте
осторожны.
— Кому, — спрашиваю, — он вдруг понадобился?
Что, у нас своих рецидивистов мало?
— Хватает, — согласился Токарь.
— Так в чем же дело?
— Не знаю. Документы поступили из штаба
части.
Я развернул путевой лист. В графе "назначение"
было указано:
"Доставить на шестую подкомандировку
Гурина Федора Емельяновича в качестве исполнителя роли Ленина..."
— Что это значит?
— Понятия не имею. Лучше у замполита
спросите. Наверное, постановку готовят к шестидесятилетию советской власти.
Вот и пригласили гастролера. Может, талант у него или будка соответствующая...
Не знаю. Пока что доставьте его сюда, а там разберемся. Если что, применяйте
оружие. С Богом!..
Я взял бумаги, козырнул и удалился.
К Ропче мы подъехали в двенадцатом часу.
Поселок казался мертвым. Из темноты глухо лаяли собаки.
Водитель лесовоза спросил:
— Куда тебя погнали среди ночи? Ехал
бы с утра.
Пришлось ему объяснять:
— Так я назад поеду днем. А так пришлось
бы ночью возвращаться. Да еще в компании с опасным рецидивистом.
— Не худший вариант, — сказал шофер.
Затем прибавил:
— У нас в леспромхозе диспетчеры страшнее
зеков.
— Бывает, — говорю.
Мы попрощались...
Я разбудил дневального на вахте, показал
ему бумаги. Спросил, где можно переночевать?
Дневальный задумался:
— В казарме шумно. Среди ночи конвойные
бригады возвращаются. Займешь чужую койку, могут и ремнем перетянуть...
А на питомнике собаки лают.
— Собаки — это уже лучше, — говорю.
— Ночуй у меня. Тут полный кайф. Укроешься
тулупом. Подменный явится к семи...
Я лег, поставил возле топчана консервную
банку и закурил...
Главное — не вспоминать о доме. Думать
о каких-то насущных проблемах. Вот, например, папиросы кончаются. А дневальный
вроде бы не курит...
Я спросил:
— Ты что, не куришь?
— Угостишь, так закурю.
Еще не легче...
Дневальный пытался заговаривать со мной:
А правда, что у вас на "шестерке" солдаты
коз де Не знаю. Вряд ли... Зеки, те балуются. По-моему, уж лучше в кулак.
Дело вкуса...
— Ну ладно, — пощадил меня дневальный,
— спи. Здесь тихо...
Насчет тишины дневальный ошибся. Вахта
примыкала к штрафному изолятору. Там среди ночи проснулся арестованный
зек. Он скрежетал наручниками и громко пел:
"А я иду, шагаю по Москве..."
— Повело кота на блядки, — заворчал
дневальный.
Он посмотрел в глазок и крикнул:
— Агеев, хезай в дуло и ложись! Иначе
финтилей под глаз навешу!
В ответ донеслось:
— Начальник, сдай рога в каптерку!
Дневальный откликнулся витиеватым матерным
перебором.
— Сосал бы ты по девятой усиленной,
— реагировал зек...
Концерт продолжался часа два. Да еще
и папиросы кончились.
Я подошел к глазку и спросил:
— Нет ли у вас папирос или махорки?
— Вы кто? — поразился Агеев.
— Командированный с шестого лагпункта.
— А я думал — студент... На "шестерке"
все такие культурные?
— Да, — говорю, — когда остаются без
папирос.
— Махорки навалом. Я суну под дверь...
Вы случайно не из Ленинграда?
— Из Ленинграда.
— Земляк... Я так и подумал.
Остаток ночи прошел в разговорах...
Наутро я разыскал оперуполномоченного
Долбенко. Предъявил ему свои бумаги. Он сказал:
— Позавтракайте и ждите на вахте. Оружие
при вас? Это хорошо...
В столовой мне дали чаю и булки. Каши
не хватило. Зато я получил на дорогу кусок сала и луковицу. А знакомый
инструктор отсыпал мне десяток папирос.
Я просидел на вахте до развода конвойных
бригад.
Дневального сменили около восьми. В
изоляторе было тихо. Зек отсыпался после бессонной ночи.
Наконец я услышал:
— Заключенный Гурин с вещами!
Звякнули штыри в проходном коридоре.
На вахту зашел оперативник с моим подопечным.
— Распишись, — говорит. — Оружие при
тебе?
Я расстегнул кобуру.
Зек был в наручниках.
Мы вышли на крыльцо. Зимнее солнце ослепило
меня. Рассвет наступил внезапно. Как всегда...
На пологом бугре чернели избы. Дым над
крышами поднимался вертикально.
Я сказал Гурину:
— Ну, пошли.
Он был небольшого роста, плотный. Под
шапкой ощущалась лысина. Засаленная ватная телогрейка блестела на солнце.
Я решил не ждать лесовоза, а сразу идти
к переезду. Догонит нас попутный трактор — хорошо. А нет, можно и пешком
дойти за три часа...
Я не знал, что дорога перекрыта возле
Койна. Позднее выяснилось, что ночью двое зеков угнали трелевочную машину.
Теперь на всех переездах сидели оперативники. Так мы и шли пешком до самой
зоны. Только раз остановились, чтобы поесть. Я отдал Гурину хлеб и сало.
Тем более что сало подмерзло, а хлеб раскрошился.
Молчавший до этого зек повторял:
— Вот так дачка — чистая бацилла! Начальник,
гужанемся от души...
Ему мешали наручники. Он попросил:
— Сблочил бы манжеты. Или боишься, что
винта нарежу?
Ладно, думаю, при свете не опасно. Куда
ему по снегу бежать?..
Я снял наручники, пристегнул их к ремню.
Гурин сразу же попросился в уборную.
Я сказал:
— Идите вон туда...
Потом он сидел за кустами, а я держал
на мушке черный воркутинский треух.
Прошло минут десять. Даже рука устала.
Вдруг за моей спиной что-то хрустнуло.
Одновременно раздался хриплый голос:
— Пошли, начальник...
Я вскочил. Передо мной стоял улыбающийся
Гурин. Шапку он, видимо, повесил на куст.
— Не стреляй, земеля...
Ругаться было глупо.
Гурин действовал правильно. Доказал,
что не хочет бежать. Мог и не захотел...
Мы вышли на лежневку и без приключений
достигли зоны. В дороге я спросил:
— А что это за представление?
Зек не понял. Я объяснил:
— В сопроводиловке говорится — исполнитель
роли Ленина.
Гурин расхохотался:
— Это старая история, начальник. Была
у меня еще до войны кликуха — артист. В смысле — человек фартовый, может,
как говорится, шевелить ушами. Так и записали в дело — артист. Помню, чалился
я в МУРе, а следователь шутки ради и записал. В графу — профессия до ареста...
Какая уж там профессия! Я с колыбели — упорный вор. В жизни дня не проработал.
Однако, как записали, так и поехало — артист. Из ксивы в ксиву... Все замполиты
меня на самодеятельность подписывают — ты же артист... Эх, встретить бы
такого замполита на колхозном рынке. Показал бы я ему свое искусство.
Я спросил:
— Что же вы будете делать? Там же надо
самого Ленина играть...
— По бумажке-то? Запросто... Ваксой
плешь отполирую, и хорош!.. Помню, жиганули мы сберкассу в Киеве. Так я
ментом переоделся — свои не узнали... Ленина так Ленина... День кантовки
— месяц жизни...
Мы подошли к вахте. Я передал Гурина
старшине. Зек махнул рукой:
— Увидимся, начальник. Мерси за дачку...
Последние слова он выговорил тихо. Чтобы
не расслышал старшина...
Выбившись иэ графика, я бездельничал
целые сутки. Пил вино с оружейными мастерами. Проиграл им четыре рубля
в буру. Написал письмо родителям и брату. Даже собирался уйти к знакомой
барышне в поселок. Но тут подошел дневальный и сказал, что меня разыскивает
замполит Хуриев.
Я направился в ленинскую комнату. Хуриев
сидел под огромной картой Усть-Вымского лагпункта. Места побегов были отмечены
флажками.
— Присаживайтесь, — сказал замполит,
— есть важный разговор. Надвигаются Октябрьские праздники. Вчера мы начали
репетировать одноактную пьесу "Кремлевские звезды". Автор, — тут Хуриев
заглянул в лежащие перед ним бумаги, — Чичельницкий. Яков Чичельницкий.
Пьеса идейно зрелая, рекомендована культурным сектором УВД., События происходят
в начале двадцатых годов. Действующих лиц — четыре. Ленин, Дзержинский,
чекист Тимофей и его невеста Полина. Молодой чекист Тимофей поддается буржуазным
настроениям. Купеческая дочь Полин. затягивает его в омут мещанства. Дзержинский
проводи с ними воспитательную работу. Сам он неизлечимо болей Ленин настоятельно
рекомендует ему позаботиться о своем здоровье. Железный Феликс отказывается,
что производя сильное впечатление на Тимофея. В конце он сбрасывает путы
ревизионизма. За ним робко следует купеческая дочь Полина... В заключительной
сцене Ленин обращается к публике. — Тут Хуриев снова зашуршал бумагами.
— "...Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие
глаза? Неужели это молодежь семидесятых?! Завидую вам, посланцы будущего!
Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек. Ради вас искореняли
буржуазную нечисть... Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские
звезды..." И так далее. А потом все запевают "Интернационал". Как говорится,
в едином порыве... Что вы на это скажете?
— Ничего, — говорю. — А что я могу сказать?
Серьезная пьеса.
— Вы человек культурный, образованный.
Мы решили привлечь вас к этому делу.
— Я же не имею отношения к театру.
— А я, думаете, имею? И ничего, справляюсь.
Но без помощника трудно. Артисты наши — сами знаете... Ленина играет вор
с ропчинской пересылки. Потомственный щипач в законе. Есть мнение, что
он активно готовится к побегу...
Я промолчал. Не рассказывать же было
замполиту о происшествии в лесу.
Хуриев продолжал:
— В роли Дзержинского — Цуриков, по
кличке Мотыль, из четвертой бригады. По делу у него совращение малолетних.
Срок — шесть лет. Есть данные, что он — плановой... В роли Тимофея — Геша,
придурок из санчасти. Пассивный гомосек... В роли Полины — Томка Лебедева
из АХЧ. Такая бикса, хуже зечки... Короче, публика еще та. Возможно употребление
наркотиков. А также недозволенные контакты с Лебедевой. Этой шкуре лишь
бы возле зеков повертеться... Вы меня понимаете?
— Чего же тут не понять? Наши люди...
— Ну, так приступайте. Очередная репетиция
сегодня в шесть. Будете ассистентом режиссера. Дежурства на лесоповале
отменяются. Капитана Токаря я предупрежу.
— Не возражаю, — сказал я.
— Приходите без десяти шесть.
До шести я бродил по казарме. Раза два
меня хотели куда-то послать в составе оперативных групп. Я отвечал, что
нахожусь в распоряжении старшего лейтенанта Хуриева. И меня оставляли в
покое. Только старшина поинтересовался:
— Что там у вас за дела? Поганку к юбилею
заворачиваете?
— Ставим, — говорю, — революционную
пьесу о Ленине. Силами местных артистов.
— Знаю я ваших артистов. Им лишь бы
на троих сообразить...
Около шести я сидел в ленинской комнате.
Через минуту явился Хуриев с портфелем.
— А где личный состав?
— Придут, — говорю. — Наверное, в столовой
задержались.
Тут зашли Геша и Цуриков.
Цурикова я знал по работе на отдельной
точке. Это был мрачный, исхудавший зек с отвратительной привычкой чесаться.
Геша работал в санчасти — шнырем. Убирал
помещение, ходил за больными. Крал для паханов таблетки, витамины и лекарства
на спирту.
Ходил он, чуть заметно приплясывая.
Повинуясь какому-то неуловимому ритму. Паханы в жилой зоне гоняли его от
костра...
— Ровно шесть, — выговорил Цуриков и,
не сгибаясь, почесал колено.
Геша сооружал козью ножку.
Появился Гурин, без робы, в застиранной
нижней сорочке.
— Жара, — сказал он, — чистый Ташкент...
И вообще не зона, а Дом культуры. Солдаты на "вы" обращаются. И пайка клевая...
Неужели здесь бывают побеги?
— Бегут, — ответил Хуриев.
— Сюда или отсюда?
— Отсюда, — без улыбки реагировал замполит.
— А я думал, с воли — на кичу. Или прямо
с капиталистических джунглей.
— Пошутили, и хватит, — сказал Хуриев.
Тут появилась Лебедева в облаке дешевой
косметики и с шестимесячной завивкой.
Она была вольная, но с лагерными манерами
и приблатненной речью. Вообще административно-хозяйственные работники через
месяц становились похожими на заключенных. Даже наемные инженеры тянули
по фене. Не говоря о солдатах...
— Приступим, — сказал замполит.
Артисты достали из карманов мятые листки.
— Роли должны быть выучены к среде.
Затем Хуриев поднял руку:
— Довожу основную мысль. Центральная
линия пьесы — борьба между чувством и долгом. Товарищ Дзержинский, пренебрегая
недугом, отдает всего себя революции. Товарищ Ленин настоятельно рекомендует
ему поехать в отпуск. Дзержинский категорически отказывается. Параллельно
развивается линия Тимофея. Животное чувство к Полине временно заслоняет
от него мировую революцию. Полина — типичная выразительница мелкобуржуазных
настроений...
— Типа фарцовщицы? — громко спросила
Лебедева.
— Не перебивайте... Ее идеал — мещанское
благополучие. Тимофей переживает конфликт между чувством и долгом. Личный
пример Дзержинского оказывает на юношу сильное моральное воздействие. В
результате чувство долга побеждает... Надеюсь, все ясно? Приступим. Итак,
Дзержинский за работой... Цуриков, садитесь по левую руку... Заходит Владимир
Ильич. В руках у него чемодан... Чемодана пока нет, используем футляр от
гармошки. Держите... Итак, заходит Ленин. Начали!
Гурин ухмыльнулся и бодро произнес:
— Здрасьте, Феликс Эдмундович!
(Он выговорил по-ленински — "здгасьте".)
Цуриков почесал шею и хмуро ответил:
— Здравствуйте.
— Больше уважения, — подсказал замполит.
— Здравствуйте, — чуть громче произнес
Цуриков.
— Знаете, Феликс Эдмундович, что у меня
в руках?
— Чемодан, Владимир Ильич.
— А для чего он, вы знаете?
— Отставить! — крикнул замполит. — Тут
говорится: "Ленин с хитринкой ". Где же хитринка? Не вижу...
— Будет, — заверил Гурин.
Он вытянул руку с футляром и нагло подмигнул
Дзержинскому.
— Отлично, — сказал Хуриев, — продолжайте.
"А для чего он, вы знаете? "
— А для чего он, вы знаете?
— Понятия не имею, — сказал Цуриков.
— Без хамства, — снова вмешался замполит,
— помягче. Перед вами — сам Ленин. Вождь мирового пролетариата...
— Понятия не имею, — все так же хмуро
сказал Цуриков.
— Уже лучше. Продолжайте.
Гурин снова подмигнул, еще развязнее.
— Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович.
Чтобы вы, батенька, срочно поехали отдыхать.
Цуриков без усилий почесал лопатку.
— Не могу, Владимир Ильич, контрреволюция
повсюду. Меньшевики, эсеры, буржуазные лазунчики...
— Лазутчики, — поправил Хуриев, — дальше.
— Ваше здоровье, Феликс Эдмундович,
принадлежит революции. Мы с товарищами посовещались и решили — вы должны
отдохнуть. Говорю вам это как предсовнаркома...
Тут неожиданно раздался женский вопль.
Лебедева рыдала, уронив голову на скатерть.
— В чем дело? — нервно спросил замполит.
— Феликса жалко, — пояснила Тамара,
— худой он, как глист.
— Дистрофики как раз живучие, — неприязненно
высказался Геша.
— Перерыв, — объявил Хуриев.
Затем он повернулся ко мне:
— Ну как? По-моему, главное схвачено?
— Ой, — воскликнула Лебедева, — до чего
жизненно! Как в сказке...
Цуриков истово почесал живот. При этом
взгляд его затуманился.
Геша изучал карту побегов. Это считалось
подозрительным, хотя карта висела открыто.
Гурин разглядывал спортивные кубки.
— Продолжим, — сказал Хуриев.
Артисты потушили сигареты.
— На очереди Тимофей и Полина. Сцена
в приемной ЧК. Тимофей дежурит у коммутатора. Входит Полина. Начали!
Геша сел на табуретку и задумался. Лебедева
шагнула к нему, обмахиваясь розовым платочком:
— Тимоша! А, Тимоша!
Тимофей:
— Зачем пришла? Или дома что неладно?
— Не могу я без тебя, голубь сизокрылый...
Тимофей:
— Иди домой, Поля. Тут ведь не изба-читальня.
Лебедева сжала виски кулаками, издав
тяжелый пронзительный рев:
— Чужая я тебе, немилая... Загубил ты
мои лучшие годы... Бросил ты меня одну, как во поле рябину...
Лебедева с трудом подавляла рыдания.
Глаза ее покраснели. Тушь стекала по мокрым щекам...
Тимофей, наоборот, держался почти глумливо.
— Такая уж работа, — цедил он.
— Уехать бы на край земли! — выла Полина.
— К Врангелю, что ли? — настораживался
Геша.
— Отлично, — повторял Хуриев. — Лебедева,
не выпячивайте зад. Чмыхалов, не заслоняйте героиню. (Так я узнал Гешину
фамилию — Чмыхалов.) Поехали... Входит Дзержинский... А, молодое поколение?!..
Цуриков откашлялся и хмуро произнес:
— А, блядь, молодое поколение?!..
— Что это за слова-паразиты? — вмешался
Хуриев.
— А, молодое поколение?!
— Здравия желаю, Феликс Эдмундович,
— приподнялся Геша.
— Ты должен смутиться, — подсказал Хуриев.
— Я думаю, ему надо вскочить, — посоветовал
Гурин.
Геша вскочил, опрокинув табуретку. Затем
отдал честь, прикоснувшись ладонью к бритому лбу.
— Здравия желаю! — крикнул он.
Дзержинский брезгливо пожал ему руку.
Педерастов в зоне не любили. Особенно пассивных.
— Динамичнее! — попросил Хуриев.
Геша заговорил быстрее. Потом еще быстрее.
Он торопился, проглатывая слова:
— Не знаю, как быть, Феликс Эдмундович...
Полинка моя совсем одичала. Ревнует меня к службе, понял? (У Геши выходило
— поэл.) ...Скучаю, говорит... а ведь люблю я ее, Полинку-то... Невеста
она мне, поэл? Сердцем моим завладела, поэл?..
— Опять слова-паразиты, — закричал Хуриев,
— будьте внимательнее!
Лебедева, отвернувшись, подкрашивала
губы.
— Перерыв! — объявил замполит. — На
сегодня достаточно.
— Жаль, — сказал Гурин, — у меня как
раз появилось вдохновение.
— Давайте подведем итоги.
Хуриев вынул блокнот и продолжал:
— Ленин более или менее похож на человека.
Тимофей — четверка с минусом. Полина лучите, чем я думал, откровенно говоря.
А вот Дзержинский — неубедителен, явно неубедителен. Помните, Дзержинский
— это совесть революции. Рыцарь без страха и упрека. А у вас получается
какой-то рецидивист...
— Я постараюсь, — равнодушно заверил
Цуриков.
— Знаете, что говорил Станиславский?
— продолжал Хуриев. — Станиславский говорил — не верю! Если артист фальшивил,
Станиславский прерывал репетицию и говорил — не верю!..
— То же самое и менты говорят, — заметил
Цуриков.
— Что? — не понял замполит.
— Менты, говорю, то же самое повторяют.
Не верю...
— Не верю... Повязали меня однажды в
Ростове, а следователь был мудак...
— Не забывайтесь! — прикрикнул замполит.
— И еще при даме, — вставил Гурин.
— Я вам не дама, — повысил голос Хуриев,
— я офицер регулярной армии!
— Я не про вас, — объяснил Гурин, —
я насчет Лебедевой.
— А-а, — сказал Хуриев.
Затем он повернулся ко мне:
— В следующий раз будьте активнее. Подготовьте
ваши замечания... Вы человек культурный, образованный... А сейчас — можете
расходиться. Увидимся в среду... Что с вами, Лебедева?
Тамара мелко вздрагивала, комкая платочек.
— Что такое? — спросил Хуриев.
— Переживаю...
— Отлично. Это называется — перевоплощение...
Мы попрощались и разошлись. Я проводил
Гурина до шестого барака. Нам было по дороге.
К этому времени стемнело. Тропинку освещали
желтые лампочки над забором. В простреливаемом коридоре, звякая цепями,
бегали овчарки.
Неожиданно Гурин произнес:
— Сколько же они народу передавили?
— Кто? — не понял я.
— Да эти барбосы... Ленин с Дзержинским.
Рыцари без страха и укропа...
Я промолчал. Откуда я знал, можно ли
ему доверять.
И вообще, чего это Гурин так откровенен
со мной?..
Зек не успокаивался:
— Вот я, например, сел за кражу, Мотыль,
допустим, палку кинул не туда. У Геши что-либо на уровне фарцовки... Ни
одного, как видите, мокрого дела... А эти — Россию в крови потопили, и
ничего...
— Ну, — говорю, — вы уж слишком...
— А чего там слишком? Они-то и есть
самая кровавая беспредельщина...
— Послушайте, закончим этот разговор.
— Годится, — сказал он.
После этого было три или четыре репетиции.
Хуриев горячился, вытирал лоб туалетной бумагой и кричал:
— Не верю! Ленин переигрывает! Тимофей
психованный. Полина вертит задом. А Дзержинский вообще похож на бандита.
— На кого же я должен быть похож? —
хмуро спрашивал Цуриков. — Что есть, то и есть.
— Вы что-нибудь слышали о перевоплощении?
— допытывался Хуриев.
— Слышал, — неуверенно отвечал зек.
— Что же вы слышали? Ну просто интересно,
что?
— Перевоплощение, — объяснял за Дзержинского
Гурин, — это когда ссученные воры идут на кумовьев работать. Или, допустим,
заигранный фрайер, а гоношится как урка...
— Разговорчики, — сердился Хуриев. —
Лебедева, не выпячивайте форму. Больше думайте о содержании.
— Бюсты трясутся, — жаловалась Лебедева,
— и ноги отекают. Я, когда нервничаю, всегда поправляюсь. А кушаю мало,
творог да яички...
— Про бациллу — ни слова, — одергивал
ее Гурин.
— Давайте, — суетился Геша, — еще раз
попробуем. Чувствую, в этот раз железно перевоплощусь...
Я старался проявлять какую-то активность.
Не зря же меня вычеркнули из конвойного графика. Лучше уж репетировать,
чем мерзнуть в тайге.
Я что-то говорил, употребляя выражения
— мизансцена, сверхзадача, публичное одиночество...
Цуриков почти не участвовал в разговорах.
А если и высказывался, то совершенно неожиданно. Помню, говорили о Ленине,
и Цуриков вдруг сказал:
— Бывает, вид у человека похабный, а
елда — здоровая. Типа отдельной колбасы.
Гурин усмехнулся:
— Думаешь, мы еще помним, как она выглядит?
В смысле — колбаса...
— Разговорчики, — сердился замполит...
Слухи о нашем драмкружке распространились
по лагерю. Отношение к пьесе и вождям революции было двояким. Ленина, в
общем-то, почитали, Дзержинского — не очень. В столовой один нарядчик бросил
Цурикову:
— Нашел ты себе работенку, Мотыль! Чекистом
заделался.
В ответ Цуриков молча ударил его черпаком
по голове...
Нарядчик упал. Стало тихо. Потом угрюмые
возчики с лесоповала заявили Цурикову:
— Помой черпак. Не в баланду же его
теперь окунать...
Гешу то и дело спрашивали:
— Ну, а ты, шнырь, кого представляешь?
Крупскую?
На что Геша реагировал уклончиво:
— Да так... Рабочего паренька... в законе...
И только Гурин с важностью разгуливал
по лагерю.
Он научился выговаривать по-ленински:
— Вегной догогой идете, товагищи гецидивисты!..
— Похож, — говорили зеки, — чистое кино...
Хуриев с каждым днем все больше нервничал.
Геша ходил вразвалку, разговаривал отрывисто, то и дело поправляя несуществующий
маузер. Лебедева почти беспрерывно всхлипывала даже на основной работе.
Она поправилась так, что уже не застегивала молнии на импортных коричневых
сапожках. Даже Цуриков и тот слегка преобразился. Им овладело хриплое чахоточное
покашливание. Зато он перестал чесаться.
Наступил день генеральной репетиции.
Ленину приклеили бородку и усы. Для этой цели был временно освобожден из
карцера фальшивомонетчик Журавский. У него была твердая рука и профессиональный
художественный вкус.
Гурин сначала хотел отпустить натуральную
бороду. Но опер сказал, что это запрещено режимом.
За месяц до спектакля артистам разрешили
не стричься. Гурин остался при своей достоверной исторической лысине. Геша
оказался рыжим. У Цурикова образовался вполне уместный пегий ежик.
Одели Ленина в тесный гражданский костюмчик,
соответствовало жизненной правде. Для Геши раздобыли у лейтенанта Родичева
кожаный пиджак, Лебедева чуть укоротила выходное бархатное платье. Цурикову
выделили диагоналевую гимнастерку.
В день генеральной репетиции Хуриев
страшно нервничал. Хотя всем было заметно, что результатами он доволен.
Он говорил:
— Ленин — крепкая четверка. Тимофей
— четыре с плюсом. Дзержинский — тройка с минусом. Полина — три с большой
натяжкой...
— Линия есть, — уверял присутствовавший
на репетициях фальшивомонетчик Журавский, — линия есть...
— А вы что скажете? — поворачивался
ко мне замполит.
Я что-то говорил о сверхзадаче и подтексте.
Хуриев довольно кивал...
Так подошло Седьмое ноября. С утра на
заборе повис ли четыре красных флага. Пятый был укреплен на здании штрафного
изолятора. Из металлических репродукторов доносились звуки "Варшавянки".
Работали в этот день только шныри из
хозобслуживания. Лесоповал был закрыт. Производственные бригады остались
в зоне.
Заключенные бесцельно шатались вдоль
следовой полосы. К часу дня среди них обнаружились пьяные.
Нечто подобное творилось и в казарме.
Еще с утра многие пошли за вином. Остальные бродили по территории в расстегнутых
гимнастерках.
Ружейный парк охраняло шестеро надежных
сверхсрочников. Возле продовольственной кладовой дежурил старшина.
На доске объявлений вывесили приказ:
"Об усилении воинской бдительности по
случаю юбилея".
К трем часам заключенных собрали на
площадке возле шестого барака. Начальник лагеря майор Амосов произнес короткую
речь. Он сказал:
— Революционные праздники касаются всех
советских граждан... Даже людей, которые временно оступились... Кого-то
убили, ограбили, изнасиловали, в общем, наделали шороху... Партия дает
этим людям возможность исправиться... Ведет их через упорный физический
труд к социализму... Короче, да здравствует юбилей нашего Советского государства!..
А с пьяных и накуренных, как говорится, будем взыскивать... Не говоря о
скотоложестве... А то половину соседских коз огуляли, мать вашу за ногу!..
— Ничего себе! — раздался голос из шеренги.
— Что же это получается? Я дочку второго секретаря Запорожского обкома
тягал, а козу что, не имею права?..
— Помолчите, Гурин, — сказал начальник
лагеря. —
Опять вы фигурируете! Мы ему доверили
товарища Ленина играть, а он все про козу мечтает... Что вы за народ?..
— Народ как народ, — ответили из шеренги,
— сучье да беспредельщина...
— Отпетые вы люди, как я погляжу, —
сказал майор.
Из-за плеча его вынырнул замполит Хуриев:
— Минуточку, не расходитесь. В шесть
тридцать — общее собрание. После торжественной части — концерт. Явка обязательна.
Отказчики пойдут в изолятор. Есть вопросы?
— Вопросов навалом, — подали голос из
шеренги, — сказать? Куда девалось все хозяйственное мыло? Где обещанные
теплые портянки? Почему кино не возят третий месяц? Дадут или нет рукавицы
сучкорубам?.. Еще?.. Когда построят будку на лесоповале?..
— Тихо! Тихо! — закричал Хуриев. — Жалобы
в установленном порядке, через бригадиров! А теперь расходитесь.
Все немного поворчали и разошлись...
К шести заключенные начали группами собираться
около библиотеки. Здесь, в бывшей тарной мастерской, происходили общие
собрания. В дощатом сарае без окон могло разместиться человек пятьсот.
Заключенные побрились и начистили ботинки.
Парикмахером в зоне работал убийца Мамедов. Всякий раз, оборачивая кому-нибудь
шею полотенцем, Мамедов говорил:
— Чирик, и душа с тебя вон!..
Это была его любимая профессиональная
шутка.
Лагерная администрация натянула свои
парадные мундиры. В сапогах замполита Хуриева отражались тусклые лампочки,
мигавшие над простреливаемым коридором.
Вольнонаемные женщины из хозобслуги
распространяли за пах тройного одеколона. Гражданские служащие надели импортные
пиджаки.
Сарай был закрыт. У входа толпились
сверхсрочники. Внутри шли приготовления к торжественной части.
Бугор Агешин укреплял над дверью транспарант.
На алом фоне было выведено желтой гуашью:
"Партия — наш рулевой!"
Хуриев отдавал последние распоряжения.
Его окружали — Цуриков, Геша, Тамара. Затем появился Гурин. Я тоже подошел
ближе.
Хуриев сказал:
— Если все кончится благополучно, даю
неделю отгула. Кроме того, планируется выездной спектакль на Ропче.
— Где это? — заинтересовалась Лебедева.
— .В Швейцарии, — ответил Гурин...
В шесть тридцать распахнулись двери
сарая. Заключенные шумно расположились на деревянных скамьях. Трое надзирателей
внесли стулья для членов президиума.
Цепочкой между рядами проследовало к
сцене высшее начальство.
Наступила тишина. Кто-то неуверенно захлопал.
Его поддержали.
Перед микрофоном вырос Хуриев. Замполит
улыбнулся, показав надежные серебряные коронки. Потом заглянул в бумажку
и начал:
— Вот уже шестьдесят лет...
Как всегда, микрофон не работал.
Хуриев возвысил голос:
— Вот уже шестьдесят лет... Слышно?
Вместо ответа из зала донеслось:
— Шестьдесят лет свободы не видать...
Капитан Токарь приподнялся, чтобы запомнить
нарушителя.
Хуриев заговорил еще громче. Он перечислил
главные достижения советской власти. Вспомнил о победе над Германией. Осветил
текущий политический момент. Бегло остановился на проблеме развернутого
строительства коммунизма.
Потом выступил майор из Сыктывкара.
Речь шла о побегах и лагерной дисциплине. Майор говорил тихо, его не слушали...
Затем на сцену вышел лейтенант Родичев.
Свое выступление он начал так:
— В народе родился документ...
За этим последовало что-то вроде социалистических
обязательств. Я запомнил фразу: "...Сократить число лагерных убийств на
двадцать шесть процентов... "
Прошло около часа. Заключенные тихо
беседовали, курили. Задние ряды уже играли в карты. Вдоль стен бесшумно
передвигались надзиратели.
Затем Хуриев объявил:
— Концерт!
Сначала незнакомый зек прочитал две
басни Крылова. Изображая стрекозу, он разворачивал бумажный веер. Переключаясь
на муравья, размахивал воображаемой лопатой.
Потом завбаней Тарасюк жонглировал электрическими
лампочками. Их становилось все больше. В конце Тарасюк подбросил их одновременно.
Затем оттянул на животе резинку, и лампочки попадали в сатиновые шаровары.
Затем лейтенант Родичев прочитал стихотворение
Маяковского. Он расставил ноги и пытался говорить басом.
Его сменил рецидивист Шушаня, который
без аккомпанемента исполнил "Цыганочку". Когда ему хлопали, он воскликнул:
— Жаль, сапоги лакшовые, не тот эффект!..
Потом объявили нарядчика Логинова "в
сопровождении гитары".
Он вышел, поклонился, тронул струны
и запел:
Цыганка с картами, глаза упрямые,Логинову долго хлопали и просили спеть на "бис". Однако замполит был против. Он вышел и сказал:
Монисто древнее и нитка бус.
Хотел судьбу пытать бубновой дамою,
Да снова выпал мне пиковый туз.Зачем же ты, судьба моя несчастная,
Опять ведешь меня дорогой слез?
Колючка ржавая, решетка частая,
Вагон столыпинский и шум колес...
...Вставай, проклятьем заклейменный...И дальше, в наступившей тишине:
...Весь мир голодных и рабов...Он вдруг странно преобразился. Сейчас это был деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его недавние предки. Лицо его казалось отрешенным и грубым. Глаза были полузакрыты.
...Кипит наш разум возмущенный,Множество лиц слилось в одно дрожащее пятно. Артисты на сцене замерли. Лебедева сжимала руками виски. Хуриев размахивал шомполом. На губах вождя революции застыла странная мечтательная улыбка...
На смертный бой идти готов..
...Весь мир насилья мы разрушимВдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы... От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил...
До основанья, а затем...
16 июня 1982 года. Нью-Йорк
Полагаю, наше сочинение близится
к финалу.
Остался последний кусок страниц
на двадцать.
Еще кое-что я сознательно решил
не включать.
Я решил пренебречь самыми дикими,
кровавыми и чудовищными эпизодами лагерной жизни. Мне кажется, они выглядели
бы спекулятивно.
Эффект заключался бы не в художественной
ткани, а в самом материале.
Я пишу — не физиологические очерки.
Я вообще пишу не о тюрьме и зеках. Мне бы хотелось написать о жизни и людях.
И не в кунсткамеру я приглашаю своих читателей.
Разумеется, я мог нагородить бог
знает что.
Я знал человека, который вытатуировал
у себя на лбу: "Раб МВД". После чего был натурально скальпирован двумя
тюремными лекарями. Я видел массовые оргии лесбиянок на крыше барака. Видел,
как насиловали овцу. (Для удобства рецидивист Шушаня сунул ее задние ноги
в кирзовые прохаря.) Я был на свадьбе лагерных педерастов и даже крикнул:
"Горько".
Еще раз говорю, меня интересует
жизнь, а не тюрьма. И — люди, а не монстры.
И меня абсолютно не привлекают
лавры, со временного Вергилия. (При всей моей любви к Шаламову.) Достаточно
того, что я работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике...
Недавно злющий Генис мне сказал:
— Ты все боишься, чтобы не получилось
как у Шаламова. Не бойся. Не получится...
Я понимаю, это так, мягкая дружеская
ирония И все-таки зачем же переписывать Шаламова. Или даже Толстого вместе
с Пушкиным, Лермонтовым, Ржевским?.. Зачем перекраивать Александра Дюма,
как это сделал Фицджеральд? "Великий Гетсби" — замечательная книга. И все-таки
я предпочитаю "Графа Монте-Кристо"...
Я всегда мечтал быть учеником
собственных идей. Может, и достигну этого в преклонные годы.
Итак, самые душераздирающие подробности
лагерной жизни я, как говорится, опустил. Я не сулил читателям эффектных
зрелищ. Мне хотелось подвести их к зеркалу.
Есть и другая крайность. А именно
— до самозабвения погрузиться в эстетику. Вообще забыто том, что лагерь
— гнусен. И живописать его орнаментальных традициях юго-западной школы.
Крайностей, таким образом, две.
Я мог рай сказать о человеке, который зашил свой глаз. И человеке, который
выкормил раненого щегленка на лесоповале. О растратчике Яковлеве, прибившем
свою мошонку к нарам. И о щипаче Буркове рыдавшем на похоронах майского
жука...
Короче, если вам покажется, что
не хватает мерзости, — добавим. А если все наоборот, опять же — дело поправимое...
Когда меня связали телефонным проводом,
я успокоился. Голова моя лежала у радиатора парового отопления. Ноги же,
обутые в грубые кирзовые сапоги, — под люстрой. Там, где месяц назад стояла
елка...
Я слышал, как выдавали оружие наряду.
Как лейтенант Хуриев инструктировал солдат. Я знал, что они сейчас вы дут
на мороз. Дальше будут идти по черным трапам, вдоль зоны, мимо рвущихся
собак. И каждый будет освещать фонариком лицо, чтобы солдат на вышке мог
его узнать. Первым делом я решил объявить голодовку. Я стал ждать ужина,
чтобы не притронуться к еде. Ужина мне так и не принесли...
Я слышал, как вернулись часовые. Как
они зашли в оружейный парк. Как с грохотом швыряли инструктору через барьер
подсумки с двумя магазинами. Как ставили в пирамиду белые от инея автоматы.
И как передвигали легкие дюралевые табуретки в столовой. А затем ругали
повара Балодиса, оставившего им несколько луковиц, сало и хлеб.
Но, как я догадался, забывшего про соль...
Трезвея от холода, я начал вспоминать,
как это 6ыло:
Днем мы напились с бесконвойниками,
которые пытались меня обнимать и все твердили:
— Боб, ты единственный в Устьвымлаге
— человек!..
Затем мы отправились через поселок в
сторону кильдима. Около почты встретили леспромхозовского фельдшера Штерна.
Фидель подошел к нему. Сорвал ондатровую шапку. Зачерпнул снега и опять
надел. Мы шли дальше, а по лицу фельдшера стекала грязная вода.
Потом мы зашли в кильдим и спросили
у Тонечки бормотухи. Она сказала, что дешевой выпивки нет. Тогда мы закричали,
что это все равно. Потому что деньги все равно уже кончились.
Она говорит:
— Вымойте полы на складе. Я вам дам
по фунфурику одеколона...
Тонечка пошла за водой. Вернулась через
несколько минут. От бадьи шел пар.
Мы сняли гимнастерки. Скрутили их в
жгуты. Окунули в бадью и начали тереть дощатый пол. Мы с Балодисом работали
добросовестно. А Фидель почти не мешал.
Потом мы выпили немного одеколона. Мы
просто утомились ждать. Он страшно медленно переливался в кружки.
Вкус был ужасный, и мы закусили барбарисками.
Мы жевали их вместе с прилипшей к ним оберточной бумагой.
Тонечка сказала: "На здоровье!"
Латыш Балодис подмигнул ей и спрашивает
Фиделя:
— Ты бы мог?
А Фидель ему и отвечает:
— За миллион и то с похмелья...
Когда мы вышли, было уже темно. Над
лесобиржей и в поселке зажглись огни.
Мы прошли вдоль конюшни, где стояли
телеги без лошадей. Фидель затянул: "Мы идем по Уругваю!.." А Балодис схватил
гитару и ударил ее об дерево. Обломки мы кинули в прорубь.
Я поглядел на звезды. У меня закружилась
голова...
В этот момент Фидель полез на телеграфный
столб. Да еще с перочинным ножом в зубах. Парень он был технически грамотный
и рассчитывал что-нибудь испортить. Он забирался выше и выше. Тень от него
стала огромной. Неожиданно он крикнул: "Мама!" — и упал с десятиметровой
высоты. Мы бросились к нему. Но Фидель поднялся, отряхнул снег и говорит:
— Падать — не залазить!..
Стали искать нож. Балодис говорит:
— Видно, ты его проглотил.
— Пусть, — сказал Фидель, — у меня их
два...
Потом мы отправились в казарму. Навстречу
выехал хлебный фургон. Мы пошли вперед, не сворачивая. Водитель затормозил,
свернул и поломал чью-то ограду...
Когда мы вернулись, служебный наряд
чистил оружие. Мы зашли в столовую и поели холодного рассольника. Фидель
хотел помочиться в бачок, который стоял на табурете. Но мы с Балодисом
ему отсоветовали.
Потом мы зашли в ленкомнату. Расселись
вокруг стола. Он был накрыт кумачовой скатертью. Кругом алели стенды плакаты
и лозунги. Наверху мерцала люстра. В углу лежала свернутая трубкой новогодняя
"Молния"...
— Скоро ли коммунизм наступит? — поинтересовался
Фидель.
— Если верить газетам, то завтра. А
что?
—А то, что у меня потребности накопились.
— В смысле — добавить? — оживился Балодис.
— Ну, — кивнул Фидель.
Я говорю:
— А как у тебя насчет способностей?
— Прекрасно, — ответил Фидель, — способностей
меня навалом.
— Матом выражаться, — подсказал Балодис.
— Не только, — ответил Фидель.
Он начал расставлять шахматные фигуры.
Я положил голову на скатерть. А Балодис стал разглядывать фотографии членов Политбюро ЦК. Потом он сказал:
— Вот так фамилия — Челюсть!
Тут в ленкомнату заглянул старшина Евченко.
— Ложились бы, хлопцы! — сказал он.
А Фидель как закричит:
— Почему кругом несправедливость, старшина?
Объясните, почему? Вор, положим, сидит за дело. А мы-то за что пропадаем?!
— Кто же виноват? — говорит старшина.
Я говорю:
— Если бы мне показали человека, который
виноват. На котором вина за все мои горести... Я бы его тут же придушил...
— Шли бы спать, — произнес Евченко.
Тут мы встали и ушли не попрощавшись.
А Фидель тот даже задел старшину. Покурили, сидя во дворе на бревнах. Затем
направились в хозчасть.
— Боб, иди в зону, — сказал Фидель,
— и принеси горючего. А то мотор глохнет.
— Давай, — подхватил Балодис, — в кильдиме
шнапса нет, а у зеков — сколько угодно. Дадут без разговоров,
увидишь. Знают, что и мы в долгу не
останемся.
Он потянул Фиделя за рукав:
— Дай папиросу.
— Курить вредно, — заявил Фидель, —
табак отрицательно действует на сердце.
— Нет, полезно, — сказал Балодис, —
еще полезней водки. А вредно знаешь что? На вышке стоять.
— Самое вредное, — говорит Фидель, —
это политзанятия. И когда бежишь в противогазе.
— И строевая подготовка, — добавил я...
В зону меня не пустили. Контролер на
вахте спрашивает:
— Ты куда?
— В зону, естественно.
— По личному делу?
— Нет, — говорю, — по общественному.
— За водкой, что ли?
— Ну.
— Поворачивай обратно!
— Ого, — говорю, — вот это соцзаконность!
Значит — пускай ее выпьет какой-нибудь рецидивист? И совершит повторное
уголовно наказуемое деяние?..
— Ты ходишь за водкой. Общаешься с контингентом.
А потом он использует тебя в сомнительных
целях.
— Кто это — он?
— Контингент... У тебя должен быть антагонизм
по части зеков. Ты должен их ненавидеть. А разве ты их ненавидишь? Что-то
не заметно. Спрашивается, где же твой антагонизм?
— Нет у меня антагонизма. Даже к тебе,
мудила...
— То-то, — неожиданно высказался контролер
и добавил: — Хочешь, я тебе из личных запасов налью?
— Давай, — говорю, — только антагонизма
все равно не жди...
Я шел в казарму спотыкаясь. В темноте
миновал заснеженный плац. Оказался в сушилке, где топилась печь. На крючьях
висели бушлаты и полушубки.
Фидель рванулся ко мне, опрокинув стул.
Когда я сказал , что водки нет, он заплакал.
Я спросил:
— А где Балодис?
Фидель говорит:
— Все спят. Мы теперь одни.
Тут и я чуть не заплакал. Я представил
себе, что мы одни на земле. Кто же нас полюбит? Кто же о нас позаботится?..
Фидель шевельнул гармошку, издав резкий,
пронзительный звук.
— Гляди, — сказал он, — впервые беру
инструмент, а получается не худо. Что тебе сыграть, Баха или Моцарта?..
— Моцарта, — сказал я, — а то караульная
смена проснется. По рылу можно схлопотать...
Мы помолчали.
— У Дзавашвили чача есть, — сказал Фидель,
— только он не даст. Пошли?
— Неохота связываться.
— Почему это?
— Неохота, и все.
— Может, ты его боишься?
— Чего мне бояться? Плевал я...
— Нет, ты боишься. Я давно заметил.
— Может, я и тебя боюсь? Может, я вообще
и Когана боюсь?
— Когана ты не боишься. И меня не боишься.
А Дзавашвили боишься. Все грузины с ножами ходят. Если что, за ножи берутся.
У Дзавашвили вот такой саксан. Не умещается за голенищем...
— Пошли, — говорю.
Андзор Дзавашвили спал возле окна. Даже
во сне его лицо было красивым и немного заносчивым.
Фидель разбудил его и говорит:
— Слышь, нерусский, дал бы чачи...
Дзавашвили проснулся в испуге. Так просыпаются
все солдаты лагерной охраны, если их будят неожиданно. Он сунул руку под
матрас. Затем вгляделся и говорит:
— Какая чача, дорогой, спать надо!
— Дай, — твердит Фидель, — мы с Бобом
похмеляемся.
— Как же ты завтра на службу пойдешь?
— говорит Андзор.
А Фидель отвечает:
— Не твоих усов дело!
Андзор повернулся спиной.
Тут Фидель как закричит:
— Как же это ты, падла, русскому солдату
чачи не даешь?!
— Кто здесь русский? — говорит Андзор.
— Ты русский? Ты — не русский. Ты — алкоголист!
Тут и началось.
Андзор кричит:
— Шалва! Гиго! Вай мэ! Арунда!..
Прибежали грузины в белье, загорелые
даже на Севере.
Они стали так жестикулировать, что у
Фиделя пошла кровь из носа.
Тут началась драка, которую много лет
помнили в охране. Шесть раз я падал. Раза три вставал. Наконец меня связали
телефонным проводом и отнесли в ленкомнату. Но даже здесь я все еще преследовал
кого-то. Связанный, лежащий на шершавых досках. Наверное, это и был тот
самый человек. Виновник бесчисленных превратностей моей судьбы:
...К утру всегда настроение портится.
Особенно если спишь на холодных досках. Да еще связанный телефонным проводом.
Я стал прислушиваться. Повар с грохотом
опустил дрова на кровельный лист. Звякнули ведра. Затем прошел дневальный.
А потом захлопали двери, и все наполнилось особым шумом. Шумом казармы,
где живут одни мужчины и ходят в тяжелых сапогах.
Через несколько минут в ленкомнату заглянул
старшина Евченко. Он, наклонившись, разрезал штыком телефонный провод.
— Спасибо, — говорю, — товарищ Евченко.
Я, между прочим, этого так не оставлю. Все расскажу корреспонденту "Голоса
Америки".
— Давай, — говорит старшина, — у нас
таких корреспондентов — целая зона.
Потом он сказал, что меня вызывает капитан
Токарь.
Я шел в канцелярию, потирая запястья.
Токарь встал из-за стола. У окна расположился недавно сменивший меня писарь
Богословский.
— В этот раз я прощать не собираюсь,
— заявил капитан, — хватит! С расконвоированными пили?
— Кто, я?
— Вы.
— Ну уж, пил... Так, выпил...
— Просто ради интереса — сколько?
— Не знаю, — сказал я, — знаю, что пил
из консервной банки.
— Товарищ капитан, — вмешался Богословский,
— он не отрицает. Он раскаивается...
Капитан рассердился:
— Я все это слышал — надоело! В этот
раз пусть трибунал решает. Старой ВОХРЫ больше нет. Мы, слава Богу, принадлежим
к регулярной армии...
Он повернулся ко мне:
— Вы принесли команде несколько ЧП.
Вы срываете политзанятия. Задаете провокационные вопросы лейтенанту Хуриеву.
Вчера учинили побоище с нехорошим, шовинистическим душком. Вот медицинское
заключение, подписанное доктором Явшицом...
Капитан достал из папки желтоватый бланк.
— Товарищ капитан, — вставил Богословский,
— написать можно что угодно.
Токарь отмахнулся и прочел:
— "...Сержанту Годеридзе нанесено телесное
повреждение в количестве шести зубов..."
Он выругался и добавил:
— "...От клыка до клыка — включительно..."
Что вы на это скажете?
— Авитаминоз, — сказал я.
— Что?!
— Авитаминоз, — говорю, — кормят паршиво.
Зубы у всех шатаются. Чуть заденешь, и привет...
Капитан подозрительно взглянул на дверь.
Затем распахнул ее. Там стоял Фидель и подслушивал.
— Здрасьте, товарищ капитан, — сказал
он.
— Ну вот, — сказал Токарь, — вот и прекрасно.
Петров вас и отконвоирует.
— Я не могу его конвоировать, — сказал
Фидель, — потому что он мой друг. Я не могу конвоировать друга. У меня
нет антагонизма...
— А пить с ним вы можете?
— Больше не повторится, — сказал Фидель.
— Достаточно, — капитан поправил гимнастерку,
— снимайте ремень.
Я снял.
— Положите на стол.
Я бросил ремень на стол. Медная бляха
ударила по стеклу.
— Возьмите ремень! — крикнул Токарь.
Я взял.
— Положите на стол!
Я положил.
— Ефрейтор Петров, берите оружие и марш
к старшине за документами!
— Автомат-то зачем?
— Выполняйте! А то — поменяетесь местами!
Тут я говорю:
— Поесть бы надо. Не имеете права голодом
морить.
— Права свои вы знаете, — усмехнулся
Токарь, — но и я свои знаю...
Когда мы вышли, я сказал Фиделю:
— Ладно, не расстраивайся. Не ты, значит
— другой.
Затем мы позавтракали овсяной кашей.
Сунули в карманы хлеб. Оделись потеплее и вышли на крыльцо.
Фидель достал из подсумка обойму, тут
же, на ступеньках, зарядил автомат.
— Пошли, — говорю, — нечего время терять.
Мы направились к переезду. Там можно
было сесть в попутный грузовик или лесовоз.
Позади оставался казарменный вылинявший
флаг, унылые деревья над забором и мутное белое солнце.
Шлагбаум был опущен. Фидель курил. Я
наблюдал, как мимо проносится состав. Мне удалось разглядеть голубые занавески,
термос, лампу... Мужчину с папиросой... Я даже заметил, что он в пижаме.
Все это было тошно...
Рядом затормозил лесовоз. Фидель махнул
рукой шоферу. Мы оказались в тесной кабине, где пахло бензином.
Фидель поставил автомат между колен.
Мы закурили. Шофер повернулся ко мне и спрашивает:
— За что тебя, парень?
Я говорю:
— Критиковал начальство...
Около водокачки дорога свернула к поселку.
Я вынул из кармана часы без ремешка, показал шоферу, говорю:
— Купи.
— А ходят?
— Еще как! На два часа точней кремлевских!
— Сколько?
— Пять колов.
— Пять?!
— Ну — семь.
Шофер остановил машину. Вынул деньги.
Дал мне пять рублей. Потом спросил:
— Зачем тебе на гауптвахте деньги?
— Бедным помогать, — ответил я.
Шофер ухмыльнулся. Затем он еще долго
разглядывал часы и прикладывал к уху.
— Тестю, — говорит, — преподнесу на
именины, старому козлу...
Мы вышли из кабины. Темнеющая между сугробами
лежневая дорога вела к поселку.
Он встретил нас гудением движка и скрипом
полозьев. Обдал сквозняком пустынных улиц. Собак здесь попадалось больше,
чем людей.
Путь наш лежал через Весляну. Мимо полуразвалившихся
каменных ворот тарного цеха. Мимо изб, погребенных в снегу. Мимо столовой,
из распахнутых дверей которой валил белый пар. Мимо гаража с автомашинами,
развернутыми одинаково, как лошади в ночном. Мимо клуба с громкоговорителем
над чердачным окошком. И потом вдоль забора с фанерными будками через каждые
шестьдесят метров.
Дальше, за холмом, тянулись серые корпуса
головного лагпункта. Там возвышалось двухэтажное кирпичное здание штаба,
набитого офицерами, стуком пишущих машинок и бесчисленными армейскими реликвиями.
Там, за металлической дверью, ждала нас хорошо оборудованная гауптвахта
с цементным полом. Да еще — с голыми нарами без плинтусов.
Уже различимы были ворота с пятиконечной
звездой...
— Мы тебя на поруки возьмем, — сказал
Фидель, — увидишь.
— Ладно. На гауптвахте отсижу. А в трибунале,
я подозреваю, очередь лет на двадцать...
Мы шли через ров по обледеневшим бревнам.
Я сказал:
— Посмотри документы. Неужели там указано
время?
— Нет, — сказал Фидель, — а что?
— Куда, — говорю, — нам спешить? Пойдем
к торфушкам.
Подразумевались женщины с торфоразработок.
Сезонницы, которые жили в бараке за поселком.
— Да ну их, — говорит Фидель.
— А что, возьмем бутылку, деньги есть.
Тут я заметил, что Фиделю это не по
вкусу. Что он поглядывает на меня с тоской.
— Идем, — говорю, — с людьми побудем.
— А с пушкой что делать?
— Автомат под кровать.
Фидель идет, молчит. Я говорю:
— Идем. Покурим, выпьем. Бардаки я и
сам не люблю.
Спокойно посидим в тепле, без крика.
А Фидель говорит:
— Слушай. Вон он — штаб, рядом. Пять
минут через
болото. Пять минут, и в тепле.
— На гауптвахте, что ли?
— Ну.
— Где пол цементный?
— Что значит — пол?! Имеется топчан.
И печка. И температура по уставу должна быть выше шестнадцати градусов...
— Слушай, — говорю, — не по делу ты
выступаешь.
Гауптвахта — впереди. И топчан, и шестнадцать
градусов,
и военный дознаватель Комлев... А сейчас
пойдем к торфушкам.
— Приключений искать? — твердит Фидель
с досадой.
— Ах, вот как ты заговорил! Вот что
делается с человеком, которому пушку навесили! Давай приказывай, гражданин
начальник!..
Тут Фидель как закричит:
— Чего ты возникаешь? Ну чего ты возникаешь?
Да пойдем куда угодно! Куда хочешь, туда и пойдем...
Мы направились в кильдим. Поднялись
на крыльцо, отряхнули снег и вошли. Пахло рыбой и керосином. В углу темнели
бочки. На полках лежали сигареты, мыло, консервы. Золотился куб халвы с
оплывшими гранями. Возле рас каленного отражателя дремала кошка. Ниже возился
петух.
Неутомимо и бешено клевал он мраморной
расцветки пряник.
Тонечка протянула нам две бутылки вина.
Фидель опустил их в карманы галифе. Потом мы взяли немного халвы и две
банки свиных консервов.
Фидель сказал:
— Купи селедки.
Тонечка говорит:
— Селедка малость того... С запахом.
Фидель спрашивает:
— С плохим, что ли, запахом?
— Да с неважным, — говорит Тонечка...
Мы вышли из кильдима. Поднялись в гору.
И вот оказились перед бараком с тусклой лампочкой над дверью.
Подошли к окну, стучим. Тотчас же высунулось
плоское лицо. Женщина с распущенными волосами трижды кивнула, указывая
на дверь.
В прихожей стояло ведро, накрытое куском
фанеры. В углу на стене темнели брезентовые плащи. Под ними лежали черпаки,
веревки и крючья...
В бараке — тепло. Чугунная печка наполнена
розовым жаром. Из угла в угол косо протянута труба.
Нары завалены пальто и телогрейками.
Прогнившие балки оклеены цветными фотографиями из журналов. На тумбочках
громоздится немытая посуда.
Мы скинули полушубки. Присели к дощатому
столу. Рядом кто-то спал, накрывшись одеялом. У окна сидела женщина в гимнастерке
и читала книгу. Она даже не поздоровалась.
— Шестнадцатая республика, — загадочно
высказалась о ней первая девица.
Затем позвала кого-то из глубины барака:
— Надька! Женихи соскучивши...
И добавила:
— Будьте как дома, если уж пришли...
Ее малиновые шаровары были заправлены
в грубые кирзовые прохаря. На запястье синела пороховая татуировка: "Весь
мир — бардак!"
Возникла подруга с бледным и злым лицом.
Она была в малиновой лыжной куртке, тесной суконной юбке и домашних шлепанцах.
Мы вынули бутылки и консервы. Девицы
принесли эмалированные кружки и хлеб. При этом они беспрерывно смеялись.
На окне чернел транзисторный магнитофон,
выделяясь среди прочего хлама.
Девица в красных шароварах назвалась
Зиной. Подруга в юбке сказала басом:
— Амосова Надежда.
— Как работаете, — поинтересовался Фидель,
— надеюсь, с огоньком?
— Пускай медведь работает, — ответила
Надежда.
Зина высказалась еще более решительно:
— Тяжелее хрена в руки не беру...
Фидель уважительно приподнял брови.
Наступила пауза. Потом Зина спросила:
— Мальчики из ВОХРЫ?
— Нет, — сказал Фидель, — мы артисты.
Вернее, лауреаты. А вот мой саксофон.
И он помахал автоматом над головой.
— Мальчики, — спросила Зина, — вы немного
чокнутые?
— Ага, — говорю, — мы психи. Кукареку!
Фидель разлил вино, звякая стеклом о
борта эмалированных кружек.
— Будем здоровы! — сказал он.
— Будем здоровы! — говорю.
— Будете, будете, — сказала Зина, —
мы проверяемся. Так что, не бойтесь...
Кто-то ходил у нас за спиной по бараку.
Кто-то просил, чтобы выключили магнитофон. Кто-то гремел черпаками в сенях.
Кто-то пил воду...
Затем явились леспромхозовские парни.
Увидели наши полушубки. Долго бродили под окнами, что-то замышляя...
Но мне было все равно. Потому что я
неожиданно вспомнил минувшую зиму. Здесь тогда проходили очередные сборы
надзорсостава. Мы были размещены в сорокаместной палатке. Койки стояли
в два яруса. Внизу было жарко от печки, а наверху гуляли сквозняки.
Каждое утро мы беспорядочной толпой
шли в столовую головного лагпункта. Потом тренировались в спортивном зале
или листали методички.
Поужинав около семи часов, мы разбредались,
кто на танцы, кто в знакомые дома. Большинство шло в местный клуб...
Грохочет оркестр. Разгоряченные девушки
ищут в толпе офицеров. Рядовые в душных мундирах топчутся у стены. Они
распространяют запах лосьона и конюшни. Их прохаря сияют, как фальшивые
драгоценности.
Но вот смолкает радиола. Солдаты едут
в кузове батальонного грузовика. Теперь они с необычайной развязностью
говорят про женщин. Я слышу голос в темноте:
— А помнишь рыжую на шпильках? Я бы
на ту рыжую лег...
— Ты бы лег и на кучу дерьма, — раздается
в ответ.
Завтра — обычный день...
Однажды вечером я шел пешком из клуба.
Музыка доносилась все слабее. Фонари не горели. Дорога была твердой от
первых морозов.
Помедлив, я неожиданно свернул к дощатому
зданию библиотеки. Крутыми деревянными ступенями поднялся на второй этаж.
Затем отворил дверь и стал на пороге.
В зале было пусто и тихо. Вдоль стен
мерцали шкафы.
Я подошел к деревянному барьеру. Навстречу
мне поднялась тридцатилетняя женщина, в очках, с узким лицом и бледными
губами.
Женщина взглянула на меня, сняв очки
и тотчас коснувшись переносицы. Я поздоровался.
— Что вас интересует? Стихи или проза?
Я попросил рассказы Бунина, которые
любил еще школьником. Расписался на квадратном голубоватом бланке. Сел
у окна. Включил изогнутую лампу, начал читать.
Женщина несколько раз вставала, уходила
из комнаты. Иногда смотрела на меня. Я понял, что внушаю ей страх.
Тайга, лагерный поселок, надзиратель...
Женщина в очках...
Как ее сюда занесло?..
Затем она передвигала стулья. Я встал,
чтобы помочь. Разглядел ее старомодное платье из очень тонкой, жесткой,
всегда холодной материи и широкие зырянские чуни...
Тут я случайно коснулся ее руки. Мне
показалось, что остановилось сердце. Я с ужасом подумал, что отвык... Просто
забыл о вещах, ради которых стоит жить... А если это так, сколько же всего
успело промчаться мимо? Как много я потерял? Чего лишился в эти дни, полные
ненависти и страха?!..
Ты дежуришь в изоляторе. В соседней
камере гремит наручниками Анаги-заде. Шумит пилорама. А дни, холодные,
нелепые, бредут за стеклами, опережая почту...
Я вернулся к столу, захлопнул книгу.
Положил ее на деревянный барьер.
— Вам не понравилось? — спросила женщина.
— Ничего, — говорю, — спасибо. Мне пора...
Я, не оглядываясь, спустился по лестнице.
До военного городка оставалось полтора километра...
Сейчас я припомнил все это и говорю Фиделю:
— Пошли отсюда.
— Ну вот! — сказал Фидель.
— Допивай вино, и пошли.
Девицы спросили:
— Вас что, невесты дожидают?
И только засмеялись вслед...
Мы шли в тишине под звездами. Направились
вдоль забора к лощине. Она заканчивалась темным и громоздким силуэтом штаба.
Вдруг на тропинку упали тени. Это были
леспромхозовские парни. Но Фидель сразу поднял автомат и крикнул:
— В лесу стреляю без предупреждения!..
Парни исчезли в темноте между деревьями.
Я шел впереди, ориентируясь на спортивную
раму для канатов. Она темнела перед зданием штаба, как виселица.
Фидель шел следом.
Тропинка была узкой, не шире лыжни.
Я то и дело спотыкался.
Когда мы огибали последние дома, я заметил
свет в библиотеке. Желтоватый ровный свет в окне. Я подумал о женщине в
зырянских чунях. Почти увидел ее за бастионами книжных шкафов. В узком
и тесном пространстве с рефлектором...
И вот я КАК БЫ захожу туда, оставляя
на деревянной лестнице мокрые следы. Пересекаю коридор, распахиваю дверь.
Женщина встает, ее серьги покачиваются. Тишина настолько полная, что явственно
слышится их мелодичный звон. Женщина снимает очки, тотчас коснувшись переносицы.
Я слышу: "Что вас интересует? "
— Пошли, — сказал Фидель, — а то ноги
мерзнут.
Я говорю ему:
— Мне надо в библиотеку зайти.
— Ого! Ну ты даешь!
— Я хочу там с одной поговорить.
— Кончай, — говорит Фидель, — и так
целые сутки добираемся.
Я остановился. Кругом ни души. В стороне
желтеют, огни поселка. Рядом темной стеной возвышается лес.
Я говорю:
— Фидель, будь человеком, пусти. Я познакомился
с одной, мне надо...
— Это значит — мерзнуть, ждать, пока
ты кувыркаешься?!
— Вместе зайдем.
Фидель говорит:
— Не могу.
— Ты мне друг, — кричу, — или гражданин
начальник?! Ну что ж, веди! Приказывай!
— Пошли, — сказал Фидель.
— Ясно, — говорю, — слушаюсь!
Однако не двигаюсь с места. Фидель остановился
у меня за спиной.
— Мне, — говорю, — надо в библиотеку.
— Иди вперед!
— Мне надо...
— Ну!
Я посмотрел туда, где сияло квадратное
окошко, дрожащий розовый маяк. Затем шагнул в сторону, оставляя позади
нелепую фигуру конвоира.
Тогда Фидель крикнул:
— Стой!
Я обернулся и говорю:
— Хочешь меня убить?
Он произнес еле слышно:
— Назад!
Тут я обругал его последними словами.
Теми, что слышал на лесоповале у костра. И около КПП на разводе. И за карточным
столом перед дракой. И в тюрьме после шмона...
— Назад, — повторил Фидель...
Я шел не оборачиваясь. Я стал огромным.
Я заслонил собой горизонт. Я слышал, как в опустевшей морозной тишине щелкнул
затвор. Как, скрипнув, уступила боевая пружина. И вот уже наполнился патронник.
Я чувствовал под гимнастеркой все девять кругов стандартной армейской мишени...
И тут я ощутил невыносимый приступ злости.
Как будто сам я, именно сам, целился в этого человека. И этот человек был
единственным виновником моих несчастий. И на этом человеке без ремня лежала
ответственность за все превратности моей судьбы. Вот только лица его я
не успел разглядеть...
Я остановился, посмотрел на Фиделя.
Вздрогнул, увидев его лицо. (В зубах он держал меховую рукавицу.) Затем
что-то крикнул и пошел ему навстречу.
Фидель бросил автомат и заплакал. Стаскивая
зачем-то полушубок. Обрывая пуговицы на гимнастерке.
Я подошел к нему и встал рядом.
— Ладно, — говорю, — пошли...
21 июня 1982 года. Нью-Йорк
Дорогой Игорь! (Ваше отчество
растряслось на ухабах совместного путешествия.) Оно закончено. Тормоза
последнего многоточия заскрипят через десять абзацев.
Есть ощущение легкости и пустоты.
Ведь я семнадцать лет готовил эту рукопись к печати. The end of something,
как выразился бы господин Хемингуэй...
Вы знаете, я человек не религиозный.
Более того, неверующий. И даже не суеверный. Я не боюсь похоронных шествий,
черных кошек и разбитых зеркал. Ежеминутно просыпаю соль. И на, Лене, которая
шлет вам привет, женился тринадцатого (13!) декабря.
Я крайне редко вижу сны. А если
вижу, то на удивление примитивные. Например — у меня кончаются деньги в
ресторане. Зигмунду Фрейду тут абсолютно нечего делать.
У меня не случается дурных и тем
более — радужных предчувствий. Я не ощущаю затылком пристальных взглядов.
(Разве что они сопровождаются подзатыльниками.) Короче говоря, природа
явно обделила меня своими трансцендентными дарами. И даже банальному материалистическому
гипнозу я, как выяснилось, не подвержен.
Но и меня задело легкое крыло
потустороннего. Вся моя биография есть цепь хорошо организованных случайностей.
На каждом шагу я различаю УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ СУДЬБЫ. Да и как мне не верить
судьбе? Уж слишком очевидны, трафареты, по которым написана моя злополучная
жизнь. Голубоватые тонкие линии проступают на каждой странице моего единственного
черновика.
Набоков говорил: "Случайность
— логика фортуны". И действительно, что может быть логичнее. безумной,
красивой, абсолютно неправдоподобной" случайности?..
Отец моего знакомого Шлафман рыл
на даче яму под смородиновый куст. Где и настиг его приступ стенокардии.
Как выяснилось, Шлафман рыл себе могилу. Случайность — логика фортуны...
Мало этого, при жизни Шлафман был несокрушимым сталинистом. И — тоже не
случайно. А для того, чтобы, я мог рассказывать эту историю без особой
скорби...
Я был наделен врожденными задатками
спортсмена-десятиборца. Чтобы сделать из меня рефлектирующего юношу, потребовались
(буквально!) — нечеловеческие усилия. Для этого была выстроена цепь неправдоподобных,
а значит — убедительных и логичных случайностей. Одной из них была тюрьма.
Видно, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя.
Не я выбрал эту женственную, крикливую,
мученическую, тяжкую профессию. Она сама меня выбрала. И теперь уже некуда
деться.
Вы дочитываете последнюю страницу,
я раскрываю новую тетрадь...