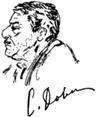
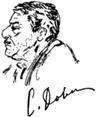 |
Sergei Dovlatov :: Сергей Довлатов >> СЛОВА >> |
НА УРОВНЕ ПРОСТОТЫ
Третьего сентября 1991 года исполнилось 50 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Это только так говорится, на самом деле — «исполнилось бы». Довлатов не дожил до своего первого юбилея, к которому он, надо сказать, готовился. По-моему, это был его первый день рождения, который он собирался отмечать соответственно.
К своему пятидесятилетию Сергей загодя приготовил книгу избранных рассказов. Лена, его жена, даже набрала и вычитала этот необычно толстый для довлатовских книг том. Туда вошло все лучшее — «Представление», «Юбилейный мальчик», «Лишний», «Дорога в новую квартиру» и многое другое. Ради этого сборника Сергей даже расформировал свои старые книжки — изымал рассказы из других циклов. К пятидесятилетию он хотел издать свое малое собрание сочинений. Эта книга задумывалась как отчет перед собой и читателем. Назвать он ее хотел так: «Рассказы». Мы с Петром Вайлем еще его отговаривали — мол, такое заглавие годится только для посмертного издания. Накаркали.
Эта книга наконец вышла в свет, как он и мечтал, в России. Его рассказы обошли лучшие советские еженедельники и толстые журналы. Довлатова цитируют то там, то здесь. О нем пишут. Идут разговоры об экранизации каких-то произведений.
Появилось и множество его книг. Изданы они неважно, с ненавистными Сергею опечатками, но в каждой из них есть строчка, которая окупает все огрехи. Та строчка, где указан тираж. Одна книга — сто тысяч, другая — даже сто пятьдесят.
Довлатов всегда стремился именно к этому — обрести массового читателя. Он был искренне убежден, что пишет книги для всех, что только такие книги и стоит писать. Довлатов не доверял эзотерическому творчеству, морщился, встречая заумь, невнятицу, темное многословие в чужом тексте. Сам Сергей, жестоко высмеивая интеллектуальный снобизм, писал предельно просто.
Проза Довлатова действительно образец той массовой культуры, которую так часто презирают в России. Я бы сказал, что это самый достойный образец из всех, которыми может похвастаться сегодня русская литература.
Уверен, что Сергея такой титул — автор массовой литературы — нисколько бы не покоробил. Он любил быть популярным, был им и будет.
Однако я отнюдь не считаю, что судьба довлатовского наследия в России складывается удачно и безмятежно. Уж в слишком бурные времена возвращаются его книги на родину. Сейчас, когда и Солженицын с Бродским лежат на прилавках, камерного Довлатова легко не заметить. В эпоху, когда бестселлерами стали первые полосы газет, скромные — я еще скажу, что вкладываю в это понятие, — сочинения Довлатова могут потеряться в потоках уже не гласности, уже в свободной речи.
Впрочем, любому писателю трудно конкурировать с политикой в критические минуты истории. Но в случае Довлатова есть своя специфика, еще и своя особая опасность: его могут принять за другого. Несмотря на всю простоту, а вернее, именно благодаря этой простоте, в Довлатове могут увидеть писателя не того уровня, которого он заслуживает. Его могут принять за юмориста, за хохмача, за эстрадника, за незатейливого обозревателя нравов. Могут перепутать его простоту с поверхностностью. Могут не заметить в его поверхностности продуманной позиции. Могут эту позицию счесть безответственностью. Могут назвать безответственность легковесностью и бездумием. Короче, к Довлатову могут отнестись невсерьез. И если это случится, то русская литература — не в первый, между прочим, раз — пройдет мимо важного и яркого явления, заслуживающего пристального внимания, глубокого изучения и сочувственной благодарности.
В таких случаях говорят: история рассудит. Но Довлатов, не доживший до своего пятидесятилетия, уже принадлежит истории. Преждевременная, такая недавняя смерть Довлатова превратила нас, его современников, в тех самых судий, которым литература доверяет выносить свой вердикт.
Близкие отношения критиков с писателем всегда затрудняют задачу анализа: тут слишком легко перепутать жанр — впасть в мемуарное настроение. Это и понятно — довлатовские сочинения рождались на наших глазах, замыслы обсуждались за дружеским застольем, мы были первыми читателями его произведений. В такой ситуации непросто добиться необходимого разделения между текстом и его автором, а значит, ответить на вопрос — кто такой Довлатов и что он принес в русскую словесность?
Это непросто еще и потому, что для тех, кто его знал, сильно искушение свести творчество Довлатова к искусству устного рассказа. Однако стихия устной речи, великим мастером и ценителем которой он был, имела лишь вспомогательное значение в его прозе.
Довлатов действительно внимательно прислушивался — именно прислушивался — к происходящему вокруг него. Много раз я встречал в его рассказах фразы, выхваченные из нашего быта. Однако за этим документальным повествованием, за этим псевдокопированием речевой реальности стоял особый художественный принцип, превращающий анекдот или зарисовку в законченное литературное произведение высокой пробы.
Можно назвать этот принцип эстетством. Да-да, Довлатов исповедовал известную концепцию — искусство ради искусства. Впрочем, в его случае лучше сказать: слово ради слова.
Сергей очень любил говорить о литературе — но о чужой, а не о своей. Тем не менее можно попытаться реконструировать его художественные принципы. Для этой цели идеально подходят «Записные книжки». Он издавал их три раза, каждый раз дополняя и перерабатывая. Так что в конце концов все эти «Соло на ундервуде» и «Соло на IBM» превратились в документ, в свидетельство, в интимный писательский дневник. Давайте же заглянем в довлатовские записные книжки:
«Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик — на уровне сердца, ума и души. Писатель — на космическом уровне. Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик — о том, как должны жить люди. Писатель — о том, ради чего живут люди».
Себе Довлатов всегда отводил самую скромную роль — роль рассказчика. Однако это уничижение паче гордости. Вся его проза была скрытым вызовом двум другим литературным позициям — прозаика и писателя. То есть, по сути, всей русской традиции, которую Довлатов глубоко ценил, но которую он отказывался продолжать.
Довлатовская литература проста, но простота эта обманчива. Хотя проза его прозрачна, эффект, который она производит на читателя, загадочен. Я еще не встречал человека, который мог бы отложить книгу Довлатова, не дочитав ее. Но мне приходилось встречать немало и тех, кто, проглотив тоненькие книжки Довлатова, с разочарованием констатировал: занятные пустяки.
Что ж, и в самом деле — пустяки. Из сочинений Довлатова не вынесешь выводов — тут уж точно не написано ни «как надо жить», ни «ради чего надо жить». На месте ответов у Довлатова только вопросы: «Что все это значит? Кто я и откуда? Ради чего здесь нахожусь?»
Чуть ли не в каждом рассказе мы встречаем это «жалкое» место, этот знак обязательной интеллигентской рефлексии, связывающий авторский персонаж Довлатова с российской традицией. Но самого автора эти вопросы не связывают: он и не обещал на них отвечать.
В этом отказе я вижу бунт Довлатова против литературы идей, против любого метафизического подтекста, против глубины вообще. Довлатов скользил по поверхности жизни, принимая с благодарностью и доверием любые ее проявления. Он стремился, так сказать, очистить словесность от литературы. В результате этой операции у него осталась чистая пластика художественного слова.
Простота Довлатова — не изначальна, она является результатом вычитания, продуктом преодоления сложности.
Об этом говорит еще одна фраза из «Записных книжек»: «Сложное в литературе доступнее простого».
Простое — по Довлатову — это сама жизнь, отраженная в словах. Слово и есть главный герой Довлатова. К приключениям слов сводится и весь сюжет его рассказов. В принципе ему не важно, о чем рассказывать. У него почти не остается самой категории содержания, разве что какой-нибудь мелкий анекдот, забавный случай. Это даже не фабула, а ее тень, предлог к повествованию. Поэтому Довлатов из раза в раз повторял одни и те же истории — о себе, своих родственниках, своих друзьях и коллегах. Суть их давно известна его читателю, но важно не что, а как рассказано. Это как музыкальная, конечно же джазовая, пьеса, в которой разворачивается, аранжируется, трансформируется одна и та же тема. Темой этой была жизнь Довлатова, все остальное — искусство выбирать и расставлять слова в нужном, единственно возможном порядке.
Именно в этом искусстве — вся соль. Довлатовский сюжет нельзя пересказать. Ей-богу, сегодня есть очень немного русских писателей, которым можно сделать подобный комплимент.
Сергей не раз пытался осмыслить природу своего ремесла. И каждый раз у него получалось что-то странное. Ну, например: «Чем дальше я занимаюсь литературой, тем яснее ощущаю ее физиологическую подоплеку». Или так: «Талант — это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее — симулировать».
Грубое снижение темы тут оттого, что Довлатов переносит литературу в иную категорию. В России всегда существовало привычное сочетание — «литература и искусство». У Довлатова литература и есть искусство — важное, принципиальное различие, которое подчеркивает интуитивную, если угодно — животную природу словесного дарования. Если литература умеет говорить, это еще не значит, что она способна к самопознанию. По Довлатову, искусство рассказчика сродни другим искусствам, не владеющим членораздельной речью, — музыке или живописи.
Рассказы Довлатова не объясняют жизнь, а покорно следуют за ней. Нет у него того момента истины, который позволяет критику анализировать «идейную» позицию автора.
Именно поэтому у Довлатова еще нет своего места в современном литературном процессе. Он сознательно отрекся от позиции, и в свое время великой позиции, писателя-идеолога, писателя-учителя. Далек он и от авангардистской литературы, хотя и прошел через ее школу. В ранних произведениях у Довлатова были и гротеск, и фантастика, и опыты ритмической прозы, и ломаные, как у Платонова, фразы, вроде: «я отморозил пальцы ног и уши головы». Но в зрелом творчестве Довлатов нашел свой, пока одинокий в России, путь — путь к литературе как словесному искусству.
Не меньше, но, главное, — не больше.
Никто не снится мне чаще Довлатова с тех пор, как он умер. Я так привык к этим снам, что уже считаю их чем-то вроде потустороннего телефона.
Внятного, правда, в них немного. Прямо спросить даже во сне неудобно, а вскользь — не получается. Только однажды Сергей сказал, что там как в армии — веселого мало, но жить можно.
Незадолго до смерти Довлатов рассказывал, что ему звонил один внезапно спятивший знакомый. Его увезли в сумасшедший дом, и он обзванивал оттуда приятелей, объясняя, что попал на тот свет. Сергей, конечно, опешил и, не зная, что сказать, спросил, как там. «Хорошо, — отвечает, — но тут про вас все спрашивают».
За что купил.
Но у меня и сны — заурядные, без мистики. Недавно, например, о новых книгах речь зашла, а я не успел сказать про его трехтомник. Проснулся и со злости на себя стал читать прямо с первой страницы. А то я его раньше не читал. Но залпом Довлатов производит оглушительное впечатление. И неудивительно, если учесть, сколько у него пьют. Если цедить понемножку, то можно еще придираться — тут лишняя слеза, там абзац, здесь — даже целый рассказец. Но трехтомник, как пальто, — жать не должен.
Пальто сюда попало из другого контекста. Как-то зимой, что важно, Довлатов собирался за границу и расспрашивал, где ему получить нужные бумаги. Я нудно объяснял. Раздраженный перспективой Сергей с претензией говорит: «Ну и как же я найду в толпе просителей чиновника?» — «В американской конторе, где нет гардеробов, он один будет без пальто», — сказал я, и впервые удостоился довлатовского одобрения.
Второй, и последний, раз это случилось летом. Закуривая (тогда мы еще оба курили), я пожаловался, что в жару карманов мало — спички некуда деть, а зимой карманов так много, что их и не найдешь.
Подозреваю, что в этих незатейливых репликах Довлатову понравилась наглядность.
Этим качеством литература склонна пренебрегать, потому что оно ей с трудом дается. Попробуйте пересказать своими словами инструкцию к будильнику. Не удивительно, что если в Америке и не хватает писателей, то только тех, кто умеет писать внятные памятки для эксплуатации видеомагнитофонов.
И ведь действительно, изложить на письме правила игры в дурака сложнее, чем описать пейзаж.
К слову, о пейзажах — мой сын, которого мы с женой обязываем читать по-русски из педагогических соображений, недавно решительно предпочел Довлатова «Отцам и детям». У Тургенева, говорит, абзац прочту, в окно посмотрю, и все надо начинать сначала. А вот Довлатова читает безропотно — видимо, нашел, за что зацепиться.
Я так себе это и представляю: летишь вдоль страницы, пока не наткнешься на что-то выпирающее. Причем замаскировано это архитектурное излишество так, что различить можно только на ощупь.
У нас в школе перила были такие, с шишечками. Издали будто гладко, но съехать не дай бог.
Деталь у Довлатова иногда достигает такой наглядности, что становится жестом. Вот, например, мой любимый эпизод: герой пьет из горлышка на заднем сиденье, а таксист ему говорит: «Вы хоть пригнитесь». — «Тогда не льется».
То ли это уже не литература, то ли еще не литература, но забыть эту сцену уже нельзя.
Мне кажется, что из всех искусств Довлатову ближе всего скульптура. Не театр, несмотря на диалоги, и не кино, несмотря на все остальное. Динамики он, в сущности, избегал. Да и сюжет тут не разворачивается, а рассказывается. Книга — портретная галерея, где автор бредет мимо персонажей. У каждого из них есть прошлое, но не будущее. Этакий сад камней.
Скульптура — медленное искусство.
Ну какой может быть импрессионизм в мраморе? Поэтому Довлатов и говорил, что предпочел бы свои рассказы высекать на камне. Не чтобы навечно, а чтобы не торопясь.
Недавно в гостях я видел новую картину Олега Целкова: обычный уродец в зеленой гамме. А когда сели за стол, оказалось, что в другом ракурсе бутылочный череп светится золотом. Этот ободок, как я понимаю, уже не часть замысла, а лихая добавка, знак усердия, материализация вложенной энергии.
Избыток мастерства есть и у Довлатова. В его предложении слова крутятся до тех пор, пока они с почти слышным щелчком не встают на свое место. Зато их потом оттуда уже не вытрясешь.
Признак хорошей скульптуры — сдержанность, что-бы ничего не торчало. Статуи Микеланджело можно скатывать с горы.
Мука для критика — округлая ладность довлатовской прозы. Ее можно понять, но не объяснить. Чем сложнее автор, тем легче его толковать. На непонятных страницах есть где разгуляться. Зато простота неприступна, даже та, что пишут на заборах.
Сегодня все мы пытаемся найти к Довлатову ключ. При этом одни подбирают шифр, другие — отмычку, третьи орудуют фомкой.
Вот как, например, объяснил Сергея его тезка (они и внешне похожи) Каледин: «Сергей Донатович Довлатов умер осенью девяностого. Официальная причина смерти: сердце. Я же думаю, дело проще: одиночество, тоска, ностальгия. Все как обычно. Как у всех больших писателей».
Что ж тут такого уж обычного? Набокова ностальгия не смогла добить до 78 лет, Бунина до 83. Пожалуй, для русских писателей, особенно больших, ностальгия безопаснее пребывания на родине.
С одиночеством тоже не все просто. Сергею его скорее недоставало — по эту сторону от Евтушенко он был самым популярным в любой компании.
А вот тоски хватало, но не больше, чем положено. Довлатов писал: «Мучаюсь от своей неуверенности. Ненавижу свою готовность расстраиваться из-за пустяков. Изнемогаю от страха перед жизнью. А ведь это единственное, что дает мне надежду. Единственное, за что я должен благодарить судьбу. Потому что результат всего этого — литература».
Нам с Вайлем эту же мысль он излагал короче: «Хоть бы зубы у вас заболели, что ли».
Калединская триада, как и другие универсальные банальности — от «ум, честь и совесть» до «трех звездочек», — годится на все случаи жизни. Но именно поэтому к Сергею она подходит не больше, чем к другим. Что, конечно, не меняет дела. Неуловимость довлатовского образа — лишь частный случай общей загадочности человеческой натуры; необъяснимый остаток — это ее золотой запас.
Сергей панически любил порядок. Он оправдывался тем, что безалаберность для пьющего человека — непозволительная роскошь. Но еще больше он наслаждался всем, что нарушает порядок.
Довлатов любил слабых, с трудом терпел сильных, презирал судей и снисходительно относился к самым диким выходкам, включая и собственные.
Видимо, он считал, что стоит только начать отсекать необходимое от ненужного, как жизнь сделается невыносимой. Ему страшно понравилась фраза Платонова:
«Без меня народ не полный».
Подозреваю, что втайне Довлатов, как все писатели, мечтал о гармонии, но понимал, что родиться она может только из противоречий.
Все его сочинения — это оправдание постороннего. Успех тут зависит от чувства меры: максимум лишнего при минимуме случайного.
Надеюсь, в этой формуле достаточно безответственности, чтобы она не превращала Довлатова в героя гипотезы.
Впрочем, Сергей начал первый — он ведь авансом со всеми сквитался,
вставив нас в свои сочинения. Каждый раз, встречая свою фамилию в его записных
книжках, я поражаюсь предусмотрительности Довлатова: он заранее раздал
критикам роли — персонажи в поисках автора.